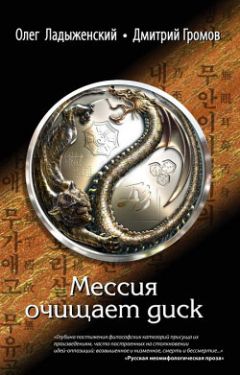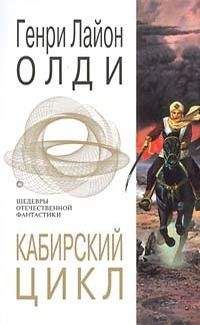Впрочем, это соседство завершилось как нельзя лучше: пройдохи вели себя смирно, косясь на невозмутимого Баня, восседавшего на корме рядом со Змеенышем, и на следующий день сошли на берег, где и передрались меж собой.
И всю дорогу преподобный Бань с рвением соблюдал распорядок монастырской жизни, насколько это позволяли условия. Змееныш недоумевал: действительно ли высший шаолиньский иерарх старается придерживаться традиционного образа жизни или просто выполняет обещание научить уму-разуму юного инока, данное патриарху обители? Тем не менее: подъем в конце пятой стражи – Бань чувствовал это время, что называется, пятками, хотя никаких стражей с колотушками по берегам не наблюдалось; медитация под открытым небом, утренний туалет и неспешный разговор об Учении. И уроки кулачного боя с перерывами на трапезу.
Часа отдыха преподобный Бань не устраивал.
А также опускал изучение трав и секретов массажа.
Трактовка монахом из тайной службы основ Чань и воинского искусства немало заинтересовала Змееныша. И то: было чему дивиться! Вместо монастырского разнообразия, когда одна проповедь о житии Будды Шакьямуни сменялась другой, парадоксальные вопросы сбивали с толку, а голова и мышцы пухли от обилия «кулаков» – «падающих», «рубящих», «пронзающих», «больших красных», «малых красных», «кулаков ночного демона» и прочих…
В области Учения преподобный Бань ограничивался самыми обыденными разговорами, внешне ни о чем, лишь изредка приводя в пример эпизоды жизни выдающихся людей – и примеры эти почти всегда были такими же обыденными, как и все прочее. Героев, подвижников и поучительных джатак для Баня не существовало. Словно никогда великий Будда не сокрушал Мать демонов, породившую пятьсот бесов, и не делал ее монахиней; словно бодисатва Гуань-инь никогда не разъезжала в женском облике на белом слоне! Вместо этого монах рассказывал примерно следующее:
Известно, что третий чаньский патриарх Сэнцань встретил смерть стоя и с приветственно сложенными руками. Когда через триста лет умирал Чжисянь из Хуаньци, он спросил:
– Кто имеет обыкновение умирать сидя?
– Монахи, – ответили ему.
– Кто же умирает стоя? – спросил Чжисянь.
– Просветленные монахи, – ответили ему.
Тогда он стал прохаживаться туда-сюда и на восьмом шаге умер.
Когда перед Алмазным гротом на горе Утайшань заканчивал свою жизнь преподобный Дэн Иньфэн, он спросил:
– Монахи умирают сидя и лежа, но умирал ли кто-либо стоя?
– Да, бывало, – ответили ему.
– Ну а как насчет того, чтобы умереть вниз головой? – спросил Дэн.
Собравшиеся пожали плечами.
Тогда Дэн Иньфэн встал на голову и умер.
Его сестра-монахиня рассмеялась и сказала:
– При жизни ты неизменно пренебрегал людскими правилами и обычаями и даже в смерти топчешь общественный порядок!
…Змееныш не сомневался: рассказывая ему подобные истории, способные ввергнуть в шок большинство жителей Срединного государства,[54] Бань преследует какую-то свою, пока неведомую цель.
Видимо, ту же цель монах из тайной службы преследовал, ограничив продвижение своего ученика в воинском искусстве всего двумя вещами: дыханием и малым тао «восемнадцать рук архатов» – детищем Бородатого Варвара.
– Восемнадцать рук да восемнадцать ног – это уже будет тридцать шесть, – приговаривал Бань без тени усмешки. – Да на каждой по пять пальцев – всего сто восемьдесят. Да на каждом пальце по три сустава… нет, мальчик мой, этот путь не для нас.
И в сотый раз заставлял Змееныша танцевать любимое тао патриарха Бодхидхармы.
А когда лазутчик жаловался, что на корме не хватает места, Бань больно пинался ногами и назидательно добавлял:
– Где способен улечься бык, там способен ударить кулак!
После чего все начиналось сначала.
В самом тао – надо сказать, довольно-таки коротком и внешне несложном – на первый взгляд Змееныша, не было ничего особо трудного. Шесть действий кулаком, два – ладонью, одно – для локтя, четыре действия ногой и пять захватов. Все. И полное отсутствие чего бы то ни было, хоть отдаленно напоминавшего чудеса, поражающие воображение, которые демонстрировали на площадке наставник Лю, учителя-шифу или тот же повар Фэн, когда бывал в хорошем расположении духа. Ни божественно высоких прыжков, ни тройных ударов ногами, ни мелькания почти невидимых рук, способных заморочить голову кому угодно… Простота и несокрушимость; и полное пренебрежение обманными увертками. Последнее особенно смущало Змееныша, в силу рода занятий предпочитавшего избегать открытого боя.
Он прекрасно знал: только в историях бродячих сказителей или на театральных подмостках лазутчики ежеминутно вступают в сражение, повергая толпы бестолковых врагов. На самом же деле…
Лазутчики смерти – это те, кто ценой собственного существования вводит врага в обман; лазутчики жизни – те, кто возвращается.
Но нет лазутчиков, которые дерутся на всех перекрестках Срединной империи.
А Бань все хмыкал и заставлял до изнеможения повторять «руки архатов», лишь изредка делая внешне незначительные замечания.
Не сразу, ох, не сразу поймал Змееныш за хвост вертлявую нить, на которую нанизывалась истинная суть любимого тао Бодхидхармы. Но когда поймал… Остановился, долго стоял в оцепенении – и Бань не мешал, не обрывал, не ругал глупого, – потом трижды прошел все цепочки, на миг замирая в конце каждого звена, завершил работу и сел на палубу.
А в мозгу Змееныша еще мелькали «восемнадцать рук».
«Орел впивается в горло», «монах забрасывает котомку за плечо», «стрелять из лука и высовываться из-под навеса», «дракон рушится с неба», «монах звонит в колокол, вдевает в иголку золотую нить и укладывает стропила»…
Каждая рука заканчивалась гибелью воображаемого врага.
Не победой, нет!
Смерть отграничивала «впивающегося в горло орла» от «монаха с котомкой», и их обоих – от «стрелка из лука» или от «монаха, открывающего ворота обеими руками», которым все и заканчивалось.
Воображаемый враг никогда не был повержен; он был убит и только убит.
– Вот это и есть подлинная слава Шаолиня, – вполголоса заметил преподобный Бань. – Это и только это. А все остальное… – И почти без перерыва спросил: – Когда ты еще не принял монашества – как обходились с тобой иноки в обители?
– Ну… – Змееныш замялся.
Скрытый смысл вопроса был ему неясен.
– Старшие братья учили меня жизни, – наконец нашелся он.
– Учили жизни? Ты служил в армии? – удивленно нахмурился преподобный Бань. – Когда? Где?
И Змееныш проклял свой язык.
А когда начал отговариваться двоюродным братом, пехотинцем гарнизона, то монах из тайной службы уже потерял к этой теме всяческий интерес.