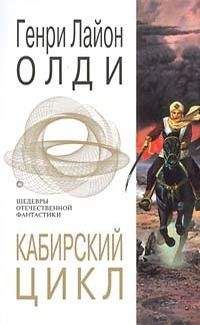Когда оба всадника-миксантропа пустили лошадей шагом вдоль ограды, Матиас Кручек вздохнул и покинул кабинет.
* * *
"Нет, она, конечно, предупреждала, – скрипя пером, записал Абель Кромштель. – Сразу после второго сеанса. Так и сказала перед отлетом: если все пойдет нормально, поведение мэтра станет естественным. Не обольщайтесь. Это временное облегчение. И не поддавайтесь на его уговоры – в город больному нельзя. Возможно, он опять захочет сбежать. От себя не убежишь, но больные с паразитом, изолированным в карантине, испытывают странные позывы.
Считайте, он под домашним арестом.
– Когда послать за вами? – спросил я.
– Когда, – она ответила загадкой, – он перестанет откликаться на свое имя.
– Нельзя ли указать точнее?
– Нельзя. У каждого это случается по-разному.
Она была права. Мэтр ел, пил и спал. Играл на арфе. Сочинял. Разговаривал со мной. Читал книги. Совершал естественные отправления. Написал «Эпитафию ночному горшку». Довольно рискованную, на мой взгляд. Шутил; временами делался задумчив. Будь на моем место кто-то другой, не знающий мэтра досконально, он решил бы, что Томас Биннори выздоровел.
Но я видел: это ложь.
Домашний арест не вызвал у мэтра гнева. Обычный, знакомый мне Биннори переломал бы в доме всю мебель. Наорал бы на меня. Порвал струны. Полез в драку со скороходами – согласно приказу, у нас в прихожей день и ночь, помимо гвардейцев, дежурили трое посыльных.
В городской толчее они проворнее всадников.
Мэтр, равнодушно принявший ограничение свободы, стал для меня полной неожиданностью. Вторая несообразность оказалась менее заметной. Я и сам-то проморгал ее вначале. За эти дни мэтр ни разу не вспомнил о родине. «А ты помнишь? – вечно начинал он, несмотря на мои просьбы не терзать сердце. – Нет, Абель, ты помнишь?» Или строил планы возвращения. Несбыточные, безумные, они приносили ему облегчение.
Так вот, сейчас он вообще не касался этой темы.
Лишь замолкал посреди разговора, или сидел за столом, держа ложку у рта, и мучительно морщил лоб. Будто забыл что-то важное, и не в силах ухватить мысль за хвост. Будто кружит одинокой птицей, ища гнездо, которое сожгли злодеи – а может, гнезда и вовсе не существовало?
И наконец, он играл две мелодии, а третью – нет. Это требует пояснений. Музыканты Западного Эйлдона говорят: «У арфы – три мелодии. Одна – грусть и умиление. Вторая – покой и дрема. Третья – радость и возвращение.»
Мэтр отказался от третьей мелодии. Иногда пальцы его брали знакомые аккорды, и сразу прекращали игру. Без участия сознания, как отдергивают руку от раскаленного металла.
Сегодня же он перестал откликаться на свое имя. Он вообще ни на что не откликался. Замер в кресле, окаменел со страшной, кривой ухмылкой на лице. Пожалуй, я запомню его лицо до конца своих дней. Теперь мне нечего бояться – я видел мертвого Биннори. Лишь зеркальце, поднесенное ко рту, говорило: он дышит.
Для верности я окликнул его – раз, другой. И разослал скороходов, куда следовало. Гарпия сказала: можно не торопиться. Время, мол, есть. Тем не менее, я спешил, как на пожар. Чудилось, что минута промедления способна отобрать у мэтра последние признаки жизни.
Из меня плохая сиделка. Я не верю лекарям.
Первым прибыл капитан Штернблад. Он чуть не загнал коня, торопясь. Зря, конечно – капитану пришлось ждать. Коротая время, он слушал рассказ одного из лейб-гвардейцев. На днях была не его смена, гвардеец подвергся нападению. В темном закоулке на него бросился какой-то бешеный псоглавец, намереваясь заколоть беднягу шпагой.
Гвардеец лихо подкручивал усы, вспоминая бой. Я не знаток фехтования, но, судя по деталям, поединок сложился нелегко. Лишь в конце, особо изощренным выпадом гвардеец достал врага – прямо в сердце! – и уложил на месте.
– Вы сообщили ликторам? – поинтересовался капитан.
– Зачем? – удивился гвардеец.
– Чтоб забрали тело убитого.
– Нет уж! Пусть гниет, падаль! Мусорщики подберут…
Капитан пожал плечами и стал перечитывать взятое из дома письмо. Я случайно увидел подпись в конце. Это было послание от его сына, Вильгельма Штернблада. Читая, капитан улыбался. От улыбки он молодел лет на двадцать. И волосы, которые он красил хной, пряча седину, вдруг отливали естественной, природной медью.
Гарпия не прилетела, как обычно, а приехала верхом на лошади, в сопровождении псоглавца. Капитан сразу же указал гвардейцу на сопровождающего.
– Этот?
– Кто? – не понял гвардеец.
– Не этот ли псоглавец напал на вас?
Гвардеец от души расхохотался.
– Я ж вам сказал, капитан: того я убил. А этот живехонек. Нет, сударь, после моего клинка не разъезжают по улицам! Да и морда у этого тупая. У того острая была, как у борзой. И уши, как у эльфа…
Псоглавец оскалился – смеясь или от злости, я не понял. Гвардеец почесал в затылке и решил не заострять внимание на различиях чужих морд. В прихожей тесно, а клыки есть клыки. В тесноте далеко ли до обиды?
– У меня просьба, – сказала гарпия, и все замолчали.
Лишь сейчас я заметил, что она… Краше в гроб кладут.
– Я не знаю, как начать сеанс. На перила лоджии я поднимусь по-человечески, – я опять не сразу сообразил, что она имеет в виду. – Выйду на балкон. Доминго мне поможет забраться… Но перед сеансом я должна осуществить захват.
– Захват? – я вздрогнул.
– Вы уже видели, – напомнила она. – Ничего страшного. Я пикирую на больного, в последний момент сворачиваю… Тут-то и кроется беда. Спикировать в моем нынешнем состоянии я, пожалуй, сумею. Возьму разгон, наберу необходимую скорость. Но остановиться вовремя… Нет, на это меня не хватит. Если я разобьюсь о землю, или, того хуже, врежусь в больного – последствия могут быть самые ужасные.
Капитан отложил письмо.
– Я вас поймаю, сударыня.
– Поймаете? – я впервые увидел, как изумляются гарпии. – Меня?
– Как родную. Не извольте беспокоиться.
– Я буду лететь очень быстро, – предупредила она. – Словно на добычу.
– Я люблю темпераментных дам. Заранее благодарю за доставленное наслаждение.
– Когти?
– У вас дивный маникюр.
– Ну, допустим. Все равно других вариантов я не вижу. Последний нюанс, капитан. Когда вы станете меня ловить, имейте в виду: я уже буду не здесь. Не телом, разумеется. Душой. Сознанием, если угодно. И тело мое может поступить, как ему вздумается. Телу все равно, кто его хватает на лету – друг или враг. Если что, я заранее прошу прощения. И хочу, чтобы меня ни в чем не обвиняли. Вы поняли?