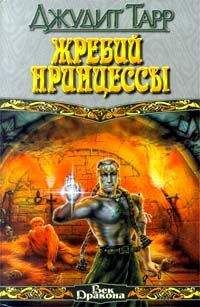— Их здесь трое, — произнес он.
Челюсть у Гумуштекина отвисла. Он знал об одном.
Айдан улыбнулся еще шире. Глаза его нашли каждого. Тот, кто был явным: юноша в белом, а этот цвет здесь бы цветом смерти, с глазами, как у мечтателя или безумца. И двое скрытых: камергер в шелках, всегда услужливый, и страж, наиболее близкий к особе атабека, самый любимый и самый доверенный из всех слуг. Айдан кивнул последнему.
— Передай своему господину, — сказал он, — что я иду потребовать с него плату. За моего родича; за ребенка, умершего до срока.
Страж стоял недвижно, но его пальцы стиснули рукоять меча. В его глазах была смерть. Он был разоблачен; он не исполнил свой долг. Он должен был умереть.
— Нет, — протянул Айдан. — Не прежде, чем ты передашь мое послание. — Он собрал в ладони силу и простер ее, легко, одевая ее плотью кости своей воли. Страж видел это. Страх его был сладок. Айдан произнес единственное слово в глубинах сознания стража, откуда никакая сила не могла его вырвать: — Иди.
И страж пошел. Остальные молча смотрели.
Атабек был потрясен до глубины души. Он был подобен прочим: он никогда действительно не осознавал могущества Айдана, пока не увидел его в чистом виде. Его страж, его мамлюк, его воспитанник, выращенный им с детских лет, никогда не принадлежал ему ни в чем. Так близко мог подойти ассасин. Так легко.
Он не был бы смертным, если бы мог питать любовь к тому, кто вырвал его из самодовольного неведения. Он был в достаточной степени властелином и правителем, чтобы не позвать палачей. Он только сказал:
— Ты не друг мне, и я тебе тоже.
— Но и не враг, — отозвался Айдан.
— Среднего не бывает.
— Мой господин избран за свою справедливость.
Губы Гумуштекина были тонкими для столь плотного человека. Они были уже едва заметны, но он выпятил их.
— Я мог бы сослужить лучшую службу моему городу и моему господину, если бы выдал тебя нашему союзнику из Масиафа.
— Ты можешь это сделать. И можешь выиграть открытую войну против Иерусалима и снова привести Дамаск под свою руку.
— Неужели ты так много значишь в этих великих королевствах?
— Я сказал бы, — ответил Айдан, — что обо мне там много говорят.
Атабек не поверил ему. Не совсем. Но тень сомнения была достаточно велика, чтобы заставить его медлить.
— Если запереть тебя в нашу темницу и потребовать выкуп, ты не приведешь против нас армию. Мертвый, ты вообще не доставишь нам хлопот.
— Я сомневаюсь, что вы можете схватить меня. Я очень сомневаюсь, что вы можете убить меня.
Это было сказано так просто, что на некоторое время Гумуштекин лишился дара речи. Это не была даже наглость. Это просто была истина.
— Отпусти меня, — сказал Айдан, мягко и спокойно. — Отдай мне моих мамлюков и разреши мне самому наказать их. Я могу пообещать, что оно будет достойным и отнюдь не легким. И что я произведу его вне пределов твоего города.
Гумуштекин даже сейчас не мог сказать ничего. Он едва понимал, что предлагает Айдан. Тот повторил это снова.
— Я не нужен тебе здесь, ни живой в твоих темницах, ни мертвый на твоем эшафоте. Отпусти меня, отдай мне моих мамлюков, и я покину твой город. Я даю тебе слово, что не выдам ни единого из твоих секретов; ибо я действительно не враг тебе, а только пауку, плетущему паутину в Масиафе.
— Лучше бы ты был мертв, — сказал атабек. Но медленно. Как будто начал сомневаться в этом.
Было ясно, как день, что он думает о своем союзе с Синаном. О данных и полученных обещаниях. О двух доверенных слугах которые не принадлежали ему; и об одном, который открыто принадлежал Синану, и теперь казался не более чем куклой.
Айдан дал ему подумать. Атабек покусывал губу. Он без любви смотрел на франкского пса, так смутившего его покой. Потом он сказал:
— Отлично. Ты жив; ты уходишь свободным. Я изгоняю тебя из моего города. Если после заката завтра ты будешь обнаружен в пределах этих стен, твоя жизнь оборвется.
— А мои мамлюки? — спросил Айдан.
— Он разделят изгнание.
Не похоже было, чтобы это их особо огорчило. Айдан взглядом и кивком велел им занять место позади него; они охотно повиновались, кипчаки слегка захихикали, что вызвало рычание со стороны стражи и шипение со стороны Арслана. Последнее, кажется, утихомирило их вернее.
Айдан, рассеянный, как и положено принцу, опечаленному неудачливостью своих слуг, поклонился атабеку на франкский манер. Он не произнес ни слова благодарности. Когда он повернулся, чтобы уйти, поднялся гневный ропот, вызванный непочтительностью — повернуться спиной к повелителю города! Айдан игнорировал это. С гордой холодностью, в сопровождении своих мамлюков, он покинул резиденцию регента.
После того, как Айдан ушел, Джоанна сидела недвижно и едва могла думать. Не осмеливалась думать. Раздражение, таившееся в душе, грозило заполонить ее всю; желчь забила горло. Джоанна выкашляла ее наружу.
Ему было легче. Он мог уйти. Ей этого не позволяли. За каждым ее движением следили; ее охраняли. Его ежедневное присутствие было мучением: находиться от него так близко, на расстоянии вытянутой руки; прятать руки в рукавах, чтобы удержаться и не схватиться за него. Она могла коснуться его. Легко. Но она не осмеливалась. Она знала, что если она сделает это, то не отпустит его.
Или выцарапает ему глаза.
Она знала, где он спит: он сказал ей. Однако он не был настолько глуп или безумен, чтобы попытаться проникнуть в гарем и выкрасть ее. Она отлично знала, что он думает об этом. Это было в его глазах, когда он смотрел на нее. Об этом говорила его настойчивость, когда он возвращался, день за днем, хотя от этого ему было не больше радости, чем ей.
Это было даже в чем-то лестно. Она не надоела ему.
Пока.
Когда она скажет ему то, что должна сказать…
Она медленно встала. Ее служанка и ее страж поднялись вместе с нею, глядя на нее. Ей хотелось закричать на них, прогнать их прочь. Она стиснула зубы и величавой походкой направилась к отхожему месту.
День тянулся по уже накатанному пути. Джоанна почти ничего не запомнила из этого. У нее были дела, и она исполняла их. Ничего не занимало ее надолго.
Она знала, что Айдана повели к атабеку. Она не могла придать этому никакого значения. Он вернется назад невредимым и едва ли обеспокоенным. Никакой смертный властелин ничего не сможет сделать с ним.
И он знал это, будь он проклят.
В Доме Ибрагима ужинали после закатной молитвы: сначала мужчины, потом женщины, когда мужчины наедятся. Сегодня у Джоанны не было аппетита; по привычке она решила выйти в сад, почувствовать вечернюю прохладу, вдохнуть свежий воздух. Она никогда не задерживалась надолго: только пока не начинали кусаться мухи. Но даже этого было достаточно.