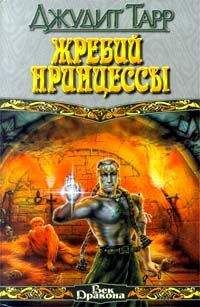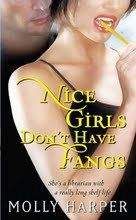— Принц перестает быть ребенком в тот момент, когда появляется на свет, — сказал Хирел. — Ты что, никогда не играл в детские игры? В глазах Саревана Хирел увидел удивление, жалость и еще что-то, чего предпочел бы не видеть. — Королевские особы не играют, — холодно заявил он. — Тем хуже для королевских особ.
— Я был свободен, — взорвался Хирел. — Я учился, занимался важными вещами.
— Действительно важными?
Сареван отвернулся и стал спускаться по залитому солнцем склону. Даже его косичка была воплощением наглости, не говоря уж об изгибе его плоских голых ягодиц и легкости его поступи по острым камням.
Хирел подобрал свою одежду, но не стал надевать ее, а аккуратно сложил в сумку, выданную Орозией, где лежали запасная рубашка, бинты и пара свертков с дорожным хлебом. Перекинув сумку через плечо как перевязь, он обернул плечи грубым шерстяным одеялом. Сареван ушел уже довольно далеко и не оглядывался назад. Хирел поднял камень, взвесил его в руке и уронил на землю. Слишком мелко для мести и слишком грубо. Осторожно, но вовсе не медленно он ступил на тропу, избранную Сареваном.
* * *
Хирел расплачивался за свою опрометчивость. В самых нежных местах кожа его обгорела и стала красной. Ему пришлось вытерпеть прикосновения рук Саревана, который смазал его бальзамом, приготовленным жрецами из каких-то трав и масел. Но в конце концов оказалось, что его кожа потеряла свою белизну и он загорел.
— Золотистый, — сказал Сареван, бесстыдно любуясь им. — Это неподходящее слово. — Теперь подходящее.
Сареван развалился, воспользовавшись боком Юлана как подушкой, и обратил лицо к великолепию звезд и лун, — существо, созданное из тени и огня.
Это зрелище потрясло Хирела, но не вызвало в нем неприятных ощущений. Сареван был прекрасен. Он был совсем другим, и это мешало воспринимать его красоту. Хирел привык видеть ее в белизне кожи, в полноте гладкого тела и правильных чертах округлого лица с прямым носом. Однако Сареван, который с точки зрения художника и поэта мог считаться ничтожным созданием природы, был так же великолепен, как и огромный юл-кот, сонно мурлыкавший рядом с ним.
Но от этого симпатии Хирелу не прибавилось. Впрочем, Саревану не было до этого никакого дела.
— Завтра, — сказал он, уже засыпая, — мы пересечем границу Асаниана.
Несмотря на то что воздух и одеяло были теплыми, Хирел вздрогнул. «Так скоро?» — пронеслось у него в голове. Слишком большая неожиданность, чтобы сохранять душевное спокойствие. Однако все его существо было охвачено ликованием.
* * *
Граница не обозначалась ни стеной, ни каменной насыпью. И тем не менее местность переменилась. Перед ними раскинулись зеленые равнины Ковруена, пропитанные теплом и светом лета, с богатыми пастбищами и обильными полями, пересеченные широкими мощеными дорогами, предназначенными для императоров, и усеянные святилищами тысяч разнообразных богов. Саревану пришлось уступить требованиям цивилизации: он обернул свои чресла тряпицей. Хирел натянул штаны и самую легкую рубашку, ненавидя самого себя за испытываемое неудобство при прикосновении ткани к телу. Но кое-чего он добился: он мог идти по дороге босиком, а его обувь лежала в мешке. Ему было бы еще приятнее, если бы рядом не шагал босоногий и почти нагой Сареван, превосходно чувствовавший себя.
Люди — крестьяне на полях, пешеходы на дорогах — таращились на варвара. В этой стране, да и во всем мире, не было ничего подобного ему. Никто не заговаривал с ним; те, к кому он приближался, отворачивались и поспешно удалялись.
— Они до такой степени скромны? — спросил Сареван, стоя на дороге со своей напоминающей язык пламени косичкой и отливающей на солнце смуглой кожей.
— Они считают тебя дьяволом, — ответил Хирел. — А возможно, богом. Но лишь один из тысячи, если ему вдруг взбредет такое в голову, может пожелать стать похожим на тебя.
Сареван гордо поднял голову, словно хотел поспорить, но ничего не сказал. И не сделал ни малейшего движения, чтобы прикрыться. Ни одна вещь в мире не могла бы сделать его меньше или бледнее либо лишить его гриву этой призывной яркости.
Хирел нахмурился.
— Было бы намного разумнее, если бы ты снял ожерелье. — Нет.
Это прозвучало так решительно, что не нуждалось в повторении.
— Я могу назвать его символом рабства. Возможно, люди поверят мне.
— Возможно, твой отец даст клятву верности Солнцерожденному. — Сареван перекинул через плечо свой мешок и продолжал путь. — Я никогда ни на что не полагаюсь, я надеюсь только на бога. — То есть на суеверие и ложь.
Сареван остановился и проворно повернулся на пятках. — И ты веришь в то, что говоришь?
— Я это знаю. Богов нет. Есть лишь мечты, желания и страхи, которые наделили именами и лицами. Любой мудрый человек это знает, да и любой священник тоже. Идея божества выгодна, когда простые люди не находят ничего лучшего, чем поклонение ему.
— Ты веришь в то, что говоришь? — повторил свой вопрос Сареван. — Бедное дитя, пойманное в ловушку этого скучного мира, такого логичного и такого слепого. Губы Хирела искривились.
— По крайней мере я не испытываю постоянного страха чем-нибудь оскорбить какое-то божество.
— Разве можешь ты, простой смертный, оскорбить бога? Выходит, ты просто не знаешь Аварьяна.
— Я знаю то, что необходимо знать. Он — это солнце. Он требует, чтобы ему поклонялись как единственному богу. Его жрецы не имеют права прикасаться к женщине, а жрицы не должны знать мужчин, иначе они сгорят в пламени. И если это не наказание за оскорбление бога, то как ты сам назовешь это?
— Мы поклоняемся ему, потому что он — солнце, потому что его свет помогает миру увидеть свое истинное лицо. Мы поклоняемся лишь ему, потому что он единственный, он великий властелин всего, что движется в его свете, точно так же, как его сестра — королева ночи. Наши клятвы перед ним — это тайна и святыня, а нарушение клятв — слабость, низость и предательство веры. Бог держит свое слово; мы можем по крайней мере пытаться следовать его примеру. — Значит, ты девственник?
— А, — нисколько не смутившись, произнес Сареван, — ты хочешь знать, настоящий ли я мужчина. А просто глядя на меня, ты этого понять не можешь? — Ты — мужчина.
«Девственник», — подумал Хирел. Он смотрел на Саревана и пытался представить себе, что этот взрослый мужчина никогда, ни единого раза не упражнялся в высочайшем и приятнейшем из искусств. Это изумляло и приводило в ужас. Это до крайности противоречило самой природе. Хирел немного расслабился.
— А, я понял. Ты говорил о женщинах. Вероятно, тебе нравятся мальчики.