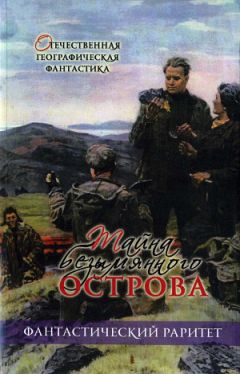Я следил за быстро приближающейся каретой. Точно белесое облако тумана парила она над мостовой, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Ее тянули две тройки белых златогривых коней. Пажи и кучер тоже выделялись белыми камзолами, с золотом на обшлагах и галунах.
— Красивая карета, — восхищенно отметил я.
— А то! — гордо отметил старик. — Герцог ведь. Ему положено.
Между тем шумная процессия поравнялась с нами. Замелькали конные бока, клепаные подпруги, украшенные цепочками удила, латные ноги, золоченые шпоры. Перед глазами закрутились плащи, точно снежные завихрения. Над головами задрожали пышные перья. А между ними я разглядел карету. На ее изящной резной дверце сверкнул золотой герб — перекрестье лебединого крыла и меча, под сенью короны. Вздрогнула и затрепыхалась кружевная занавесь. Оттуда пахнуло ароматом душистых масел и цветов. А также свежестью молодого девичьего тела. Но в глубине этого запаха угадывалось томление и тоска. Угадывалось ожидание чего-то важного и неизбежного.
Я замер, прислушиваясь и принюхиваясь к необыкновенной карете. Мои глаза впились в нее острыми стрелами. Но разглядеть тех, кто сидел внутри, не удалось. Лишь только отблеск льняных волос, словно озарение, мелькнул на миг, но тут же погас в подступающем багровом сумраке вечера.
Грохот растаял, словно крик птицы в горах, плащи превратились в призрачные тени и скрылись из виду. Карета с охраной умчалась вдаль, словно легкокрылое воспоминание. Люди переглянулись, зашевелились. Защелкали кнуты, заржали кони, заскрипели колеса. Зашаркали усталые ноги, застучали каблуки. Шествие возобновилось.
— Чего там в мире-то творится? — неожиданно прозвучал под ухом вопрос старика.
— А чего там может твориться? — пожал я плечами, заинтересованно взглянув на него.
— Знать, все по-старому?
— Все по-старому, — вяло отмахнулся я.
— Эх, — разочарованно вздохнул он. — Жизнь прожил, а никакого чуда так и не увидал.
— Чудес везде полно, — вежливо не согласился я. — Другое дело, не все из них мы видим.
— Эх, ничего-то я уже не вижу, — с обреченной тоской отметил старик. — Слепой стал, да старый. Да и раньше ничего не видел. Толку, спрашивается, от жизни? Зачем жил? Только сгорбился. А все ради чего? Чтоб такие герцоги перед носом на дорогих каретах разъезжали? Разве ж это справедливо?
— Конечно, — кивнул я, ничуть не тронутый его жалобным голосом.
Старик насторожился, подобрался. Рука стиснула облезлую клюку. Глаза замерли и увлажнились. Из его груди вырвался сдавленный стон:
— Как это может быть справедливо? Почему?
— Почему? — переспросил я. — Да потому, что ты сам только что об этом сказал, почтенный старец. Ты сам определил свой смысл жизни. Ты сам ответил на свой же вопрос. Я уважаю твой возраст — он несоизмерим с моим. Равно как и мудрость наша несоизмерима. Но с высоты своих прожитых лет я сужу именно так. Точнее я не сужу, но слушаю чужие суждения. И в них люди сами раскрывают свою суть.
— Ах ты, негодник! — с неожиданной силой зашипел старик, угрожающе воздев клюку. — Охальник! Ах ты…! Да я жизнь прожил, спины не разгибая! Я не шатался без дела по городам, не побирался и не попрошайничал! Я работал! И уважал тех, кто старше меня! И не хамил им!
— В вашем королевстве вежливый тон есть хамство? — не выдержал я.
— Ах ты… прохвост! — надвигался он на меня. Пришлось отступать. — Да как ты смеешь меня оскорблять?! Меня — старика!
— Заметь, почтенный старик, себя оскорбил ты сам. Я лишь отметил это. К тому же это не оскорбление — это правда. Другое дело — она не слишком для тебя приятна. Но что поделаешь — жизнь твоя, и ты ее прожил так, как хотел. Так, как и все. Благо, хоть под конец прозрел. Правда, менять ее уже поздно. Но ты не отчаивайся. Я не думаю, что в твоей жизни было меньше счастья, чем в жизни того же герцога. Или несчастья. Просто, у каждого оно свое. А презирать его за белую карету, это, извини меня — черная зависть.
Старческие глаза внезапно вспыхнули грозным пламенем. Он пристукнул клюкой по камням и плюнул мне под ноги.
— Понабилось тут пришлых! А ну иди, куда шел, и не стой тут, пока не отходил тебя палкой!
— Так я и иду, — спокойно пояснил я. — Но ты зачем-то заговорил со мной, задал вопрос, сам же на него ответил. А если желаешь чуда, приходи завтра на турнир. Чует мое сердце, там произойдет нечто невероятное. Хотя, может и не произойдет. Для тебя. Ведь ты не привык чудеса видеть. Но ты все равно приходи.
Я снова пожал плечами, одарил его снисходительной улыбкой и поспешил дальше. За спиной еще слышались вспыльчивые выкрики, старческая брань, стук клюки. Но вскоре они стихли. Да, старики подобны детям. Их обидеть так же легко, как и детей. И мудрость их порой сродни мудрости детской, когда неосознанно говоришь истинную суть. Кратко и метко.
Вечер окончательно погас. Последние лучи окрасили городскую стену, могучие гранитные зубцы, высокие башни, узкие бойницы, доспехи привратников. И канули в пучину западного мрака. Над городом воцарилась ночь.
Улица призрачной змеей ползла навстречу. Раскидистые деревья потемнели, напитались тенями и подозрительно поскрипывали. Казалось, мое присутствие тревожило их, словно я не давал им уснуть. Они слышали мою неслышную поступь и чутко вздрагивали. Они смотрели на меня сквозь опущенные веки и трепетно перешептывались. Они давно меня ждали. Ждали, но в глубине души надеялись, что я обойду эти места стороной.
Или это всего лишь ощущения?
Как, впрочем, и вся наша жизнь.
Ощущения.
От простых, до самых невообразимых…
Я оглянулся, прислушался. Город медленно погружался в сон. Хотя многие еще гуляли и веселились, но запах сна становился все сильнее и отчетливее. Сны пахли приятной усталостью, радостью от сброшенного бремени прошедшего дня и ожиданием дня нового. Сны поднимались над крышами домов, сбегали вниз, ползли по улицам, взбирались на деревья, прятались в пышных клумбах, крались за редкими прохожими, подсаживались на запоздалые повозки и кареты. Такие легкие, такие воздушные. Для них нет преград, для них нет законов и правил. Они даже не подчиняются своим хозяевам, своим творцам, кто породил их. Они похожи на озорных неразумных детей. На безобидных детей. Пусть и среди них встречаются хулиганы и забияки. Порою лишь они — единственная отрада родителям.
Задумавшись, я не заметил, как забрел в какой-то переулок. Здесь было темно и безлюдно. Глухие высокие стены сжимали его с обеих сторон. Казалось, я вошел в каменное ущелье. Лишь изредка попадались небольшие дверцы черных ходов, да глухо заколоченные окна. Оттуда изредка доносились приглушенные голоса, грязная ругань и пьяные выкрики. Где-то полилась из кадушки вода, затем с ненавистью хлопнуло окно, послышался скрежет ржавого затвора. Каждый спешил отгородиться от этого ужасного места. Я посмотрел вдоль проулка. Повсюду валялись горы хлама, мусора и отходов. В сточной канаве плавали очистки, объедки, тухлая рыба, куриные лапы и потроха, кости, сгнившие овощи и фрукты. У дверей стояли бочки и корыта с нечистотами. В воздухе разлился невыносимый смрад. То и дело попискивали крысы, приземистыми тенями выскальзывая из-под ног. Мокрые, шустрые, хитрые зверьки, способные выживать в самых тяжелых и трудных условиях. Прямо, как люди. Хотя, возможно, людей они считали богами, создавшими их королевство, их мир, их рай. Такой уютный, спокойный, приятный и родной. Такой изобильный. Мелкие жители грязного королевства чувствовали себя здесь вольготно, сыто и смело. Они любили свою страну и своих богов, что день ото дня подносили им щедрые дары и жертвоприношения.