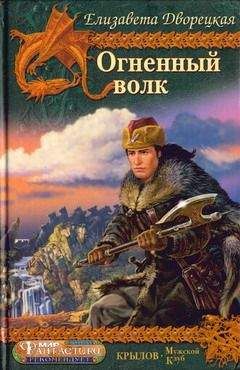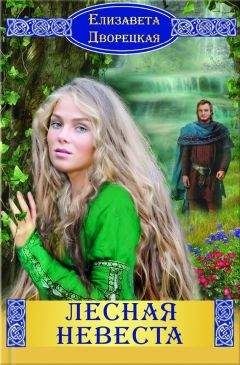— Дверь прикрой, чай, не свадьбу ждем! — так же неласково приказал голос, и только по голосу Лобан разобрал, в какую сторону поклониться.
Ведунья сегодня была не в духе. Поспешно выполнив приказание, мужик поклонился раз, встряхнул своими приношеньями и поклонился снова, не зная, что с ними делать.
— На ларь поставь! — велел голос.
Глаза Лобана попривыкли к темноте, он разобрал громаду ларя возле самой двери. Он ткнул мешок и берестянку на крышку ларя, там что-то зашуршало, и Лобан поспешно отстранился. Ему, привыкшему к просторной и сухой родной избе, здесь было неловко, тесно и жутко, как в волчьей яме, даже хуже — в яме хоть небо видно.
— Як тебе, матушка! — заговорил Лобан, снова кланяясь и подбирая к животу опустевшие руки. — Помоги моему горю! Ведь…
— Знаю! — бросила из угла ведунья.
Голос ее шел снизу, словно она сидела на полу, но Лобан не мог разглядеть ее в углу, куда совсем не проникал свет. Да в человечьем ли она теперь облике? — — мелькнуло у него сомнение. Покажись ему сейчас огромная сова с круглыми глазами, он ужаснулся бы, но не удивился.
— Ведь сынок-то мой… — снова начал Лобан.
— Лишнего не говори! — оборвала ведунья. — Боги все знают, а Лес все слышит. Чего от меня хочешь?
— Чего мне хотеть? — Лобан растерянно развел руками. Теперь он уже различал неясные очертания женщины, сидящей на полу. — Одного прошу у богов — в старости покоя, рода продления. Один он у меня. Не он, так и… Девки со двора улетят — кто меня в старости утешит?
— Судьбой и боги не владеют, она ими владеет.
— Чтобы сын мой дома остался — только того и прошу.
— Ну так привяжи за ногу — авось не убежит! — с издевкой ответила ведунья. — Парень молодой, здоровый — кто же его удержит? Да и обещали вы воеводе, что отпустите. Гривну взяли за него!
— Вот мы что надумали, — нерешительно заговорил Лобан. — Женить бы его. От жены, поди, не убежит и к воеводе. А мне бы внуков повидать, пока жив.
Из угла раздался тихий звук, похожий на скрип сухого надломленного дерева, — ведунья засмеялась. Лучше бы бранилась — от смеха ее брала жуть, как будто нечисть и нежить уже опутали тебя невидимой сетью и радуются поживе. Правду говорят — доброго духа вещий человек в ельнике не поселится.
— Мало ли девок? — спросила Елова. — Что лягушек в болоте!
— Мало немало да ведь он не глядит более ни на кого. Все свою прежнюю вспоминает. А неволить — сердце не камень. Сын ведь, родная кровь.
— Кровь… — протянула ведунья, и непонятно было, удовольствие или отвращение вызывало у нее это слово. — Кровь спит, кровь молчит… Приворожить сына хочешь? Сам, своей волей, хочешь ему кровь разбудить?
— А… ведь… — Лобан мялся, но ведунья молчаньем требовала ответа, и он выдохнул, словно в прорубь кинулся: — Да ведь надо род продолжать! Хоть как — коли иначе боги не дают.
— Не тебе знать божью волю! — воскликнула ведунья, и у Лобана упало сердце — не хочет помочь. — Своей судьбы и сам Отец Сварог[104] не знает, а что знает — переменить не может. Откуда тебе знать, в чем судьба твоего сына? Боги у него отняли невесту — может, они ему непростой путь готовят, может, в Кощное владение[105] дух его за ней устремится, тайны ему откроются, станет он вещим человеком, даст ему Велес[106] песенный дар или смертный страх отнимет — и будет твой сын витязем славным, никем не победимым? Он идет дорогой своей судьбы, а тебе только и заботы — дома его держать, возле печки, к бабьему подолу привязать?
— Ой, да что ты такое толкуешь? — Лобан оторопел, замахал руками, словно гнал прочь безумные видения. — Мало ли баб мрет, что же, всем мужикам теперь…
— Баб немало мрет, да не все мужики полгода на свет не глядят.
— Чего не глядит? — Лобан даже осмелился возражать, так не понравились ему речи ведуньи. — Еще как глядит! Парень как парень, от работы не бегает, от людей не прячется, песни поет. Кметя того вон как приложил…
Ведунья опять засмеялась, и Лобан запнулся — ему показалось, что он сказал несусветную глупость, а ведь все было по правде! В избушке повисла тишина, и Лобану казалось, что он ощущает на своем лице взгляд ведуньи, протянутый из темного угла, как липкую паутину.
— Ну, коли ты за сына его судьбу решил… — начала ведунья.
— Что ты, матушка! — прервал ее Лобан, совсем растерявшись перед непонятными вопросами ведуньи и ответами еще хуже вопросов. — Где мне? Как люди, так и нам бы. А коли не прав я, так ты скажи!
— Сам Сварог о своей судьбе спрашивать ходил, а что услыхал, и того не понял, — размеренно ответила Елова. Голос ее стал безразличным, тусклым, как осеннее небо. — И в Верхнем Небе[107] не тот решает, кто знает. Чего просишь, то тебе и дам. Да помни потом — сам хотел. Говори: кого в невестки хочешь?
— Да все равно! — с горечью ответил Лобан. — Кто ни будет…
— После не пеняй — кто будет, я не знаю, да уж сорвал гриб — назад не посадишь.
Лобан молчал, а ведунья быстро встала на ноги, с колен ее метнулся в угол маленький черный зверек. В другом углу висели связками и пучками целые охапки трав. Елова прошла туда и принялась рыться в травах, не глядя на Лобана. Травы тихо шуршали, веточки и листья падали на пол, волны всяческих лесных запахов, знакомых и вовсе неведомых, окутали Лобана. В носу у него защекотало, словно маленькая проказливая Болотница просунула тонкий коготок, и он задержал дыхание, чтобы ненароком не вдохнуть чего-нибудь, не ему предназначенного.
Наконец Елова вышла из лесного снопа, вся обсыпанная сухой зеленой трухой, до жути похожая на Лесовицу[108]. В руках у нее был зеленовато-серебристый стебель с длинными узкими листьями. Сперва Лобан не понял, что это такое, но тут же его кольнул смутно знакомый, тревожный, запретный запах — любомель, люба-трава, туманящая разум и зажигающая кровь, наполняющая тело томленьем. Лобану стало стыдно, но тут же он сам себе напомнил: за тем и пришел. Кому боги помогли, тот у болота помощи не просит.
Не глядя на него, Елова обеими руками поднесла к лицу стебель и стала шептать, овевая дыханьем каждый листочек:
Трава любомель, проснись-пробудись,
К словам моим обратись, мне подчинись!
Бери кремень и огниво,
Разожги сердце ретиво,
Мечи в очи дым, в кровь яр огонь,
Мечи яр огонь в кости и в жилы,
В семьдесят суставов,
Полусуставов, подсуставов,
Чтоб тоска твоя горевала,
Плакала-рыдала,
Бела света не видала…
Ведунья бормотала дальше и дальше, всех слов Лобан уже не разбирал, но быстро покрывался холодным потом, словно волшебная сила, которой наделялась трава любомель, черпалась Еловой из него самого.