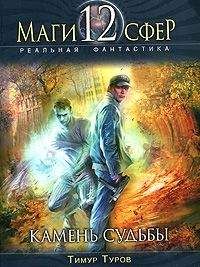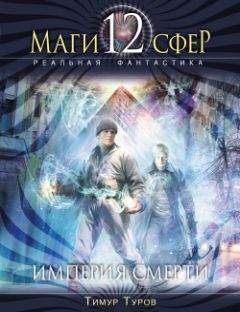Последнюю фразу он выкрикнул, выкрикнул с бешенством, сжимая кулаки. Глеб понимал, что делает что-то не то, но остановиться уже не мог. Внезапный приступ озлобления на всех и вся заставил его забыть об осторожности.
– Стой, гад! – заорал Погодин и рванулся следом за Аскетом. – Стой! Я не буду! Я не хочу!..
Игрок, уже покидавший камеру, обернулся и коротким движением ткнул Глеба собранными в щепоть пальцами в солнечное сплетение. Дверь захлопнулась. Острая боль пронзила Погодина. Крик застрял в горле, он закашлялся, согнулся, судорожно хватая воздух.
– Вона как человека корежит, – с сочувствием сказал кто-то.
– С непривычки, – откликнулся Бенц. – По первому разу у многих нервы не выдерживают. Слышь, аладдины! Ну-ка, тащите его сюда, пусть полежит.
Таджики послушно подхватили Глеба под локотки и довели до топчана.
– Отдохни, братан, – заботливо освободил место Черепок.
– Да пошли вы все!.. – простонал сквозь зубы Погодин, скорчившись на холодных крашеных досках.
– Мы-то пойдем. Гляди, чтобы ты тут не остался, – беззлобно отозвался Бенц. – Курить хочешь?
– Да.
– Ну, держи тогда.
Он сунул Глебу сигарету, чиркнул зажигалкой, потом закурил сам и, выпустив к потолку струю дыма, глубокомысленно изрек:
– Все, что не убивает, делает меня сильнее. Знаешь, кто сказал?
– Ницше, – прошептал Глеб.
– А раз знаешь, прими бесплатный совет: не обостряй. Понял?
– Более-менее…
– Плохо, что более-менее. Понятливость – залог выживаемости.
– Тоже Ницше?
– Нет, – коротко хохотнул Бенц. – Это уже я.
Глеб сел, посмотрел на бывшего бандита, превратившегося ныне, судя по всему, в преуспевающего бизнесмена.
– Почему я должен всех понимать? Почему никто не хочет понимать меня?
– Понимают тех, кто это заслужил. Ты – нет.
– А кто решает – заслужил я или нет? – упрямо спросил Глеб.
– Люди. Человеки разумные. Вон они, вокруг. Видишь?
– Не вижу…
Бенц сочувственно похлопал его по плечу.
– Дурак ты. Дальше носа смотреть не хочешь. Скучно с тобой. Вали отсюда!
Глеб молча поднялся и убрел в угол. Дверь камеры снова распахнулась, и уже знакомый милиционер пригласил к майору следующую троицу задержанных.
– А че, тех уже отпустили? – с любопытством спросил Черепок.
– Нет, в Бутырку отправили, – усмехнулся страж порядка. – Ясное дело отпустили. Понаберут ротозеев без документов, а нам потом тут канителиться…
Скорость, с которой вызывали и отпускали задержанных, напугала Глеба. Прошло менее часа, а в камере осталось всего пятеро – сам Погодин, Черепков и таджики. За это время Глеб так ничего и не надумал. Единственное, что показалось ему разумным в словах Аскета, так это мысль задержаться в милиции. Оставалось только каким-то образом осуществить эту идею.
Чем бестолку впотьмах блуждать,
Свернуть рискуя шею,
Присесть и просто подождать
И безопасней, и умнее.
– Тебе что, особое приглашение требуется? – удивился охранник, в очередной раз заглянув в камеру после того, как привел назад таджиков. У них не оказалось разрешения на пребывание в России. – А ну, давай бегом!
Глеб уныло поплелся за ним. В кабинете, за столом, заваленным бумагами, майор с красными глазами, не поднимая головы, спросил:
– Фамилия, имя, отчество, адрес?
– Я… Я не помню! – выпалил Глеб.
– Чего? – по-детски вытаращился не ожидавший такого ответа милиционер. – Как это – «не помню»?
– А вот так. Забыл.
– Пьяный, что ли? – Недоверчиво вглядываясь в лицо Погодина, майор втянул носом воздух. – Или под кайфом?
– Нет, просто память плохая.
– Послушайте, гражданин! Нам тут в бирюльки играть некогда! – Майор скривился, как от зубной боли. – Или вы называете ваши данные, или возвращаетесь в камеру.
– Хорошо, возвращаюсь.
– Ага… – Записав что-то в журнал, майор снял трубку телефона: – Осташев! Зайди ко мне.
В кабинет вошел тот самый милиционер в бронежилете, что сопровождал Глеба и остальных задержанных.
– Вы где этого взяли? – спросил майор.
– Там же, где всех. При досмотре, в тачке ехал. А что?
– Говорит, что не помнит, как его зовут. Хочет вернуться в камеру.
– Да-а? – Осташев всмотрелся в лицо Глеба. – Трезвый вроде.
– Досматривали его?
– Ну да, омоновцы еще. Телефон отобрали, как положено. Он там, в ящике. Еще сумка с вещами была.
Майор выдвинул ящик стола, достал мобильник Глеба.
– Батарея села. Осташев, а в сумке что?
– Барахло носильное, диски компьютерные в количестве двух штук. Ничего интересного.
– Ясно. Все одно к одному. Гражданин, вы точно уверены, что не помните своих данных?
– Не помню, – подтвердил Глеб, чувствуя себя последним кретином.
Побарабанив пальцами по столу, майор поднял на Осташева красные глаза:
– Короче, отведи-ка ты его в «десятку». И пусть посидит до вечера. А там Иваныча смена, вот пусть он и разбирается.
Глеб встал, дурашливо поклонился майору:
– Премного благодарен.
Осташев от дверей спросил:
– Может, дурку вызвать?
– Иваныч решит, – уклончиво ответил майор.
Камера под номером десять оказалась намного меньше «четверки». Здесь имелся только коричневый унитаз в углу и узкий топчан у противоположной от входа стены. Окна не было. Не было в камере и сидельцев.
– Одиночка, – усмехнулся Глеб, когда дверь за ним закрылась. – Что ж, так оно даже лучше.
Он прилег на топчан и закрыл глаза…
Этот сон не понравился Глебу с самого начала. Слишком холодным, неуютным он был. Стойкое ощущение опасности, возникнув в самом начале, не оставляло Погодина до момента пробуждения. Он точно стоял на краю пропасти, и малейшее неверное движение могло привести к падению в бездну.
Ветер гнал легкую поземку, заметая корявые полярные березки. День, едва начавшись, потух; невидимое за облаками солнце ушло за горизонт, быстро смеркалось. Клаус приказал горным стрелкам остановиться. Он поднялся на косо торчащий из снежных застругов скальный обломок, стянул рукавицы и достал бинокль. Бронзовые окуляры обожгли веки, на глаза навернулись слезы. Клаус выругался, сморгнул и осмотрел лежащее впереди плоскогорье.
Ему открылся безрадостный северный пейзаж – снег, камни, темная полоска леса на юго-востоке и неровный контур горного массива на севере.
«Джек Лондон придумал правильный термин – «белое безмолвие», – подумал Клаус, убирая бинокль в футляр.
Надо было торопиться, чтобы до наступления полной темноты добраться до леса. Ночевать на ветру, под открытым небом, в глубоком снегу значило поставить всю операцию под угрозу срыва.
«Группа еле тащится, – оглядев своих бойцов, скривился Клаус. – Герои Нарвика! Горные великаны! «Северная звезда укажет нам дорогу к победе»! Какая тут, к черту, победа… Эти русские снега доконают кого угодно. Впрочем, и тут обман. Никакие эти снега не русские, а лапландские. Русские были два года назад под Волоколамском, там, где остался Дитрих, а я едва не потерял руку. Проклятие, а ведь если бы потерял, сидел бы сейчас где-нибудь в канцелярии с соответствующей нашивкой на мундире штурмбаннфюрера, перекладывал бумажки и каждый день видел Клару…»