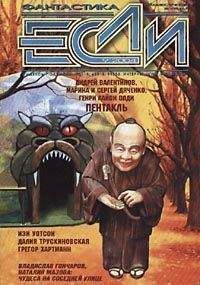Септим тыкал в рыцарей пальцем, и всюду, куда он показывал, появлялись знаки. «Бить сюда» в центре щита, «или сюда» - на шлеме. Соланж тоже попробовала себя в деле, и на лошадиных доспехах повсюду нарисовалось - «сюда не бить!»
Буквы делали что угодно. Они сыпались как с воза! Из букв, как из кирпичей, на их глазах выросли две башни, упирающиеся в небо. Когда небо потемнело, буквы зажглись золотом, выписывая в ночи письмена света. А потом, когда рассвело, башни осыпались, начиная сверху, построчно, оставив только горы черных как пепел букв.
- Сколько из них можно было бы понастроить, ты только подумай, Соланж.
Соланж попинала носком ботинка черную груду перед собой. Буквы нехотя взвились и опали, как мертвые мотыльки.
- Не хочу я из них ничего строить, - сказала она сварливо. - Они дохлые. Потому и не удержались.
- Они не удержались, потому что вот тут, тут и тут были написаны неправильные слова!
Соланж думала. Она в эти дни думала больше, чем до этого всю жизнь, и внутренний монолог не облекался в слова, а то бы было легче. Она понимала, что это зависть, и чувствовать ее ей совсем не нравилось.
Он чудо-ребенок и пуп земли. Он герой, а она - спутница героя. Охранник и нянька. Соланж, разумеется, не поверила в то, будто это она причина всех библиотечных чудес: хотя бы потому, что когда она ходила сюда одна, ничего особенного не случалось. Ну оставалась она наедине с приключением, но оно сидело в своих рамках и не вырастало до небес, и не становилось чем-то иным, и уж тем более не было воском в ее руках. А так выходило, будто и вправду все книги были одинаковы, или, вернее, каждая книга была одновременно всеми остальными книгами. Будто она, Соланж, стояла на берегу моря, и морю было все равно, стоит ли она тут. А когда она одна читала книгу, было так, будто и море-то возникает лишь когда она приходит на берег. Соланж не хотелось быть такой маленькой. Ведь это для нее открылась библиотека, и кто она теперь тут, привратница? Она не представляла, с кем ей об этом поговорить. Ей казалось, что Хлое не поймет. С чего бы той понимать? Никто чужой не отвечает за твою личность.
* * *
- Я больше не приду, - сказал Септим.
Соланж посмотрела на него удивленно. Ей казалось, ему тут нравится. В библиотеке он выглядел намного более оживленным, чем когда выгружался из лимузина в компании двух секьюрити Дома: бледный и застроенный, слабая тень среди предписанных ему правил. Будто бы эти правила были начертаны на гигантских простынях, и этими простынями все вокруг завешено, а самого Септима между ними если и увидишь, то только на просвет, и то при правильно поставленном свете.
- Отец решил, что это бесплодная трата времени.
- А чего он вообще хочет от тебя? Каких плодов?
Септим сморщил нос.
- Ну, он, я думаю, был бы рад, если бы я возглавил какую-нибудь компанию, и мы бы вместе наваляли Папоротникам. Причем он был бы рад особенно, если бы мое участие ограничилось вдохновляющим словом. Это означало бы, что у меня есть внутренняя сила, и ее наконец стало видно. А то, понимаешь, одиннадцать лет он в эту силу верил, пора бы уже и подкрепить ее чем-то.
- Мне кажется, она у тебя есть, эта сила.
- Она не вся моя, понимаешь? Это место, оно само по себе волшебное, и еще что-то такое есть в тебе. Я ж не только здесь книжки читаю. А может, это книжки особенные. Какой смысл проявлять силу здесь, если больше нигде она не высовывается?
Соланж помолчала, переваривая новость. Это как же так, в одночасье конец всем упоительным играм? Ей захотелось накричать на Септима, может, даже потрясти его за лацканы дурацкого полосатого пиджачка. Конечно, место, и конечно - книжки. И сами мы особенные, как же вот так раз - и все?! Не только же за себя он решает?
Да он и не решает. Это его папочка решает за… за всех! Я теперь понимаю, почему родители так его не любят. Ну то есть папа говорит, что Гракх Шиповник его вполне устраивает, когда не лезет в нашу личную жизнь.
То, что Септим покинул ее, не означало, что Соланж перестала быть собой. Ходила она в библиотеку до него, теперь станет ходить после, как будто ничего не случилось. Как будто не было ничего. На этом вот месте ей хотелось плакать, потому что она чувствовала себя одинокой, обиженной и брошенной, но если бы она согласилась считать себя таковой, ей стало бы еще обиднее. Это она привела его в библиотеку, это для нее открылась волшебная дверь. Неужели ее роль в истории только этим и ограничилась?
Так что на следующий день Соланж как ни в чем не бывало явилась в библиотеку, ограничилась невнятным «здрасссст» в сторону Хлое, кинула сумку в угол, взяла книгу - любую, не глядя! - и села читать.
Ах если бы читать! Буквы и слова оставались издевательски неизменными, маленькими черными букашками на белом листе, и не складывались совершенно ни во что, а когда наконец поплыли, оказалось, что это не от волшебства, а от вскипевших на глазах слез. Быстро стемнело. На ковре в круге света лежала открытая книга, а кругом… кругом было черно, сколько видел глаз. Черные стены уходили вверх. Соланж утерла рукавом глаза и нос и переменила позу, прижавшись спиной… к чему? К стенке черной трубы, плотной, упругой, немного вязкой.
Настоящей.
Встав на четвереньки над книгой, Соланж ощупала руками пространство вокруг. Круг был замкнут. Она оказалась в темнице из слов. Ей удалось определить некоторые из них на ощупь.
Отчаяние.
Одиночество.
Прерванная дружба.
* * *
Соланж почувствовала себя животным, пойманным в ловушку: еще страшнее было от того, что она потеряла счет времени. Ничего не менялось: темная труба вокруг и свет маленькой лампы, падавшей на страницу. Больше смотреть было некуда. В представлении Соланж любое приключение содержало в себе собственный счастливый конец, задача была лишь выбрать правильное направление и приложить героические усилия. Однако отчаяние почти лишило Соланж воли к сопротивлению, или, точнее говоря, она не видела, куда это сопротивление можно было бы продуктивно приложить.
Хотелось есть, но несильно. Больше спать. Глаза слипались, все вокруг плыло. Возможно, выход лежал через раскрытую книгу, но без Септима Соланж не рискнула бы погрузиться в неведомый сюжет, даже если бы могла. Без Септима она могла только наблюдать за сюжетом со стороны, никак на него не влияя. Интересно, как его отец смог бы использовать в свою пользу этот дар? Менять произвольным образом законы, заставляя буквы складываться совсем в другие слова?
Но ведь без меня он тоже не сможет!
Весь ее разум ушел в эти рассуждения, на измысливание пути к освобождению его уже не хватало. И книга перед нею была - или казалась? - пустой, словно из одних белых страниц. Ни на что не годной. В ней же нет даже букв, чтобы их переставить.