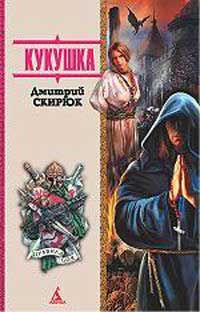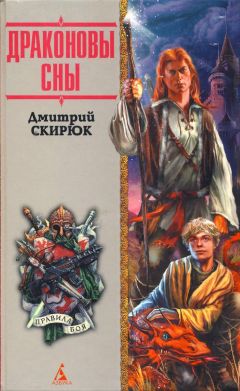Настоятель бернардинского монастыря аббат Микаэль был невысок и основателен. Черноволосый, с крупным носом, с глазами навыкате, он шёл, сосредоточенно глядя перед собой, грел руки в рукавах рясы и мало обращал внимания на происходящее вокруг. Это его сандалии с коротким хрустом подминали схваченную поздним инеем зелёную траву.
Башмаки носил брат Себастьян. — Что вы намерены делать? — после некоторого молчания спросил аббат. — Как поступите с девицей?
— Я думаю над этим.
Холодный ветер пах не снегом, но уже дождём, весенний лёд стеклил пустые лужи, над головой цвиркали ласточки, слепившие под козырьками монастырских крыш такую прорву гнёзд, что их хватило бы на пропитание не одной дюжине китайцев, которые, как известно, до них весьма охочи. Солнце помаленьку начинало пригревать. Когда отряд испанцев больше месяца тому назад притопал в монастырь, ещё царили холода, теперь всё в природе говорило, что весна уже не за горами.
Что же касается их юной пленницы, её судьбы к всей дальнейшей участи, то тут брат Себастьян не торопился. Удалённое от городов, спокойное, надёжное и тихое аббатство бернардинцев было удачным местом, чтоб остановиться и как следует подумать.
А подумать было о чём.
Брат Себастьян испытывал странное ощущение, сродни тому, которое, должно быть, чувствует охотник, много лет преследующий дичь, но находящий только клочья шерсти, капли крови и остывшие следы. Сейчас же, если придерживаться этих аналогий, в челюстях капкана оказалась лапа, намертво зажатая и потому отгрызенная бестией, в борьбе за жизнь пожертвовавшей малым, чтоб спасти большое. И даже если двести раз сказать себе, что тварь действительно мертва, успокоение не наступало, ибо не было главного свидетельства успеха — тела.
А лапа... Да мало ли, какая, от кого и где осталась лапа!
Лис ускользал, подбрасывая инквизитору загадку за загадкой, может быть, с каким-то умыслом, а может быть, непроизвольно, и наконец исчез совсем, подбросив напоследок самую большую. Девушка, захваченная испанцами в лесу близ рудника, та самая «оторванная лапа», вынутая ловчим из капкана, оставалась для священника загадкой. Кто она? Откуда? Как её зовут? Зачем была при травнике? Куда бежала, почему? Куда исчез её товарищ, да и был ли мальчик? Какое колдовство им застило глаза во время штурма дома и каким бесовским наваждением убило астурийского наёмника?
Кто был отцом её, покамест нерождённого, ребёнка?
Как это могло произойти-то, наконец?
Когда брат Себастьян поднял вопрос о содержании пленницы под стражей, настоятель обители был против присутствия женщины на территории монастыря, но в интересах следствия такое дозволялось, и ему пришлось уступить. Первое время её держали в помещении для раздачи милостыни, потом перевели в лечебницу и наконец — в странноприимный дом, где девушке, по крайней мере, можно было обеспечить должные уход и содержание и не особо напрягаться, выставляя стражу: окон было мало, находились эти окна высоко, а дверь наружная была одна и крепко запиралась.
Там же разместили и охрану.
...Две пары рук неспешно перебрасывались картами; две пары: одна — с мосластыми суставами, с неряшливыми сбитыми ногтями на коротких пальцах, жёлтая от табака, и вторая — поухоженней, почище и с кольцом на среднем пальце правой. Перебрасывались резко, но без напряжения: день только-только начался.
— Восьмёрка.
— Дама.
— Ну а мы её тузом, тузом! Ага? Что скажешь?
— Что скажу? А вот тебе на это тоже туз! И вот ещё один. И вот ещё.
— Dam! — Руки с кольцом задержались, сложили и бросили карты. — Ну и везёт же тебе, ты, старый sacra plata[8]!
— Хорош ругаться, лучше гони выигрыш.
Кольцо было недавно выигранным, сидело неплотно, стянулось легко. Звякнуло об стол и закрутилось, словно золотистый шарик. Упало. Легло. Первые руки подхватили его и преловко надели на палец.
— Ну что, ещё разок?
— Сдавай.
Два испанских солдата несли караул в комнатушке возле входа. Странноприимный дом был практически пуст: бродяги и нищие с наступлением тёплых деньков спешили разойтись по городам в надежде захватить пораньше паперти, трактирные задворки, берега каналов и другие хлебные места, в лечебнице тоже почти никого не было, кроме пары простудившихся монахов и ещё двух тяжелобольных, на днях постриженных ad seccurendum[9]: им в общей монастырской спальне было слишком холодно. Никто караульщиков не тревожил — брат Себастьян пребывал в размышлении, десятник пьянствовал и большей частью спал, изловленная дева тоже не доставляла неприятностей; приятели дули вино и резались в карты.
Алехандро Эскантадес сгрёб колоду со стола, вложил рассыпанные карты, постучал, чтоб подровнять, и начал тасовать, сверкая жёлтым ободком на безымянном пальце.
— Альфонсо, compadre, везение тут вовсе ни при чём, наставительно проговорил он. — Ведь что такое игра? Игра это quazi uno fantasia. Она, если хочешь знать, почти искусство; а в искусство надо верить, иначе никакое везение тебе не поможет, хоть тресни. А ты сидишь, ходы просчитываешь — сколько, где, куда, и думаешь, что угадал.
— Как будто ты их не высчитываешь...
— Есть такое. Только всё равно всего не просчитаешь. Вон, взять хотя б Хосе: ты бы сел играть с ним?
Родригес поморщился:
— Что-то не особо хочется.
— А-a! — Алехандро дал партнёру срезать, раскидал и важно поднял палец: — То-то и оно. А он считать умеет только до пяти... — Он развернул свои карты веером. — Что у тебя?
— Десятка.
— A, caspita! Тройка. Заходи,
По грязному столу зашлёпали карты. Фортуна вопреки пословице на этот раз себя явила женщиной непеременчивой: так же быстро, как и первую, Родригес проиграл вторую игру, после чего взгляды обоих задержались на бутылке.
— Угу?
— Угу.
Вино забулькало по кружкам.
— А неплохо здесь, — опустошив свою до дна, довольно ощерился Санчес.
Альфонсо тоже оторвался от кружки, перевёл дух и потянулся за сыром.
— Что говоришь? — спросил он.
— Неплохо здесь, я говорю. — Санчес вытер подбородок и усы. — Когда пришли сюда, я грешным делом про себя подумал: всё, Санчо, отбегался, сиди теперь в монастыре, карауль чёртову девку, набирайся святости и пой псалмы, пока хрен не отсохнет. Ан нет, смотри-ка ты: жратва хорошая, тепло, а вино вообще — нектар, а не вино. И кислит, и сладит, и в голову ударяет. Не иначе, им сам Бог виноград помогает растить. Одна беда — делать нечего, даже подраться толком не с кем, да и до девок топать далеко.
— Ничего, как станет потеплее, дальше пошагаем. Алехандро с сомнением покосился на собеседника: