— Так получилось.
— Хорошо получилось, — со странным удовлетворением отметил Феликс. — Кстати, возвращаясь к племяннику. Он мне сегодня понарассказывал… Это что, пассивный пласт эйленского фольклора? Я таких легенд не припомню.
— А вы из Эйле? — Хальк ощутил, что начинает злиться. Феличе кивнул и небрежно прибавил, что нынешняя работа для него — что-то вроде развлечения. Способ приятно и нехлопотно провести лето, не особенно мучаясь от безделья. А вообще-то у усадьбы есть хозяин. Между прочим, владелец одного из столичных издательств.
— Вы ведь пишете? Хотите, я возьмусь пристроить ваши рукописи? Но только стихи.
Хальк залпом допил вино. В голове шумело. Он не понимал почти ничего из этой странной беседы. Почему стихи? Это издательство что, ничего другого не печатает? Может, ему взяться дамский роман написать? Да, это будет здорово, тетки на кафедре изящной словесности разом заткнутся.
— А сказку нельзя? Это же не легенды, я сам…
— Нельзя, — сказал Сорэн. — Ни при каком раскладе. Даже и не думайте.
Было в его голосе что-то, что заставило Халька моментом протрезветь. Озноб пробежал по спине.
— Почему? — чувствуя себя последним дураком, тем не менее, спросил он.
Феликс откинулся к плетеной спинке стула. Скрестил на груди руки. Помолчал. Потом сказал осторожно:
— Видите ли… Саша. Это все очень красиво, это заставляет ощутить… я не знаю, как сказать. Убогость нашего мира, серость, собственную тупость и трусость. Это красиво и очень страшно. Но пока только на словах. А вот если вы запишете… все эти ощущения можно смело помножить на десять. Не слишком ли? И потом. Вы же слушали курс философии. Помните, как там про бытие и сознание?
— Сознание вторично.
— Ерунда, — сказал Феличе убежденно. — Вот вы представьте хоть на минуту, что своим сознанием вы определяете чужое бытие. И не надо далеко ходить за примерами. Весь лагерь живет теперь вашим сознанием… созданием, если хотите. Но они дети, они веселятся, они не могут долго задумываться о всех… обо всем, что там всерьез. Они ловят призраков и ругают вашего коллегу Краоном. И это закономерно. Вы же не хотите, чтобы сорок пять детей и трое взрослых испытывали такую же боль, какую испытываете вы.
Мотыльки летели на свет. Пахло приближающимся дождем. Малиновая молния расколола небо над террасой. У Сорэна невольно дернулась щека.
Хальк видел все это, как через стекло.
— Я. Не. Понимаю.
— Смерть моны да Шер… я соболезную. Простите.
Хальк встал, с шумом отодвинув стул.
— В-вы!.. Кто вам?!..
— Неважно. Кстати, вот вам лишний повод задуматься над тем, как кончаются в жизни страшные сказки. Не придумай вы такого, кто знает, может, она осталась бы жива.
— Прекратите! Я не верю!
— И правильно, — Феликс вдруг широко, ослепительно улыбнулся. Как будто и сам углядел ущербность своих доказательств. — Не верьте. Когда вам скажут. Когда прочтете. Даже когда увидите собственными глазами — все равно не верьте. Есть только иллюзия. Смерти — нет.
Глава 3.
…Непонятно, питал давний мастер отвращение к супруге, теще либо ко всему человечеству сразу или стремился устрашить, потому что сам всех в упор боялся, но надо признать, что ему удалось: любой, кто встречался с химерами Твиртове лицом к лицу, испытывал брезгливое отвращение и страх. Не потому, что в этой мифической тварюшке (в каждой по-своему) были смешаны черты змеи, козла и льва — сами по себе эти звери если и устрашающи, то вовсе не отвратительны. Но безвестный мастер учинил с их чертами такое, что может привидеться только в кошмарном сне. А еще он нетвердо понимал, что есть химера, этот мастер, и потому прибавил каждой чешуйчатые бронзовые крылья и грифоний клюв. Из клюва свисало раздвоенное змеиное жало, и создавалось впечатление, что вымышленная зверушка дразнится или облизывается, схрумкав очередную жертву. А может, это был стилизованный огонь. Кстати, последнее сомнительно, так как химеры Твиртове пыхали огнем вполне настоящим. Неведомый умелец проложил в каменных телах тончайшие трубочки, и стоило залить масла зверюшке под хвост и ткнуть в нос зажженным факелом, как из клюва начинало извергаться короткое, но весьма ощутимое пламя. Ночью зрелище могло быть вполне феерическим — три уступа зловещих теней и на равных расстояниях огни. Только вот жителям столицы с воцарения Одинокого Бога любоваться не приходилось — все забивали проклятые молнии.
Из каморки, где Кешка прятал тряпки и мел, послышался слабый стон, и мальчишка споткнулся о каменные кольца химерьего хвоста.
— Ох, извини, — произнес он. Нашарил завалявшийся в мешочке у пояса сальный огарок.
Тот едва осветил закуток, шалашик щеток у стены, позабытый в древние времена строительный мусор и — заслонившегося рукой человека.
— Ты кто? — спросил Кешка шепотом. — Что ты тут делаешь?
И снова стон. Кешка вспомнил какие-то разговоры внизу про воровку, пробравшуюся в Твиртове, про адептов… неужели она тут прячется? Он втиснулся в каморку — та была невелика, но и Кешка в свои двенадцать лет был вовсе не богатырь, поместился. Двери слегка притворил — они с таким визгом проехались по камню, что, казалось, перебудили пол Твиртове, — задул огарок и спросил тихим шепотом:
— Тебе помочь?
— А ты кто? — голос был сдавленный, словно на грани стона и слез.
— Я за химерами прибираю, чищу.
— Как в конюшне?
Кешка хихикнул и разозлился.
— Они живые, понятно? Дура ты! Вот придет истинная хозяйка — и проснутся.
Он зажал рот рукой. За эти слова запросто угодишь в нижние казематы. А там и на костер. Бог Одинок, и он же Велик, и никого не может быть рядом. Дурочка опять застонала, громко. И Кешке сделалось стыдно. Ну и страшно, хотя на уступы по ночам не рискуют заглядывать даже стражники: легенды легендами, а как вдруг?.. Мальчишка протянул руку в темноте, уткнулся в теплую мокрую щеку:
— Больно?
В дверном проеме полыхнула молния, выхватила из темноты и словно залила кровью женское лицо.
— Тебя как… звать? — спросила беглянка.
— Кешка. Викентий. Но чаще — «щенок» и… — Кешка проглотил бранное слово. — Только я тут один работаю. Они боятся.
— Это правда… про химер?
Кешке вдруг до смерти захотелось рассказать, все, что он слышал и знает, но трезвые рассуждения перевесили. Мало ли что сотворили с девчонкой адепты, вдруг истечет кровью. И пить может хотеть. Кое-что у него тут припрятано… и надо подумать, как ее вывести из цитадели — утром обыщут и здесь.
…Патент, отмеченный большими печатями зеленого воска, висел у самой двери. Хозяйка цветочной лавки, хотя и неграмотная, безмерно им гордилась и пересказывала наизусть любому, кто хотел услышать. А услышать хотели многие — это была единственная на весь город "божественная цветочная лавка", и закупались в ней и цвет рыцарства Твиртове, и дворяне из провинции. По случаю жары тетушка Этель, страдавшая одышкой и ожирением, из своих комнат на задах лавки не выходила, предоставив все дела семнадцатилетней племяннице Роде, своей единственной родственнице и наследнице. Рода была Кешкиной подружкой, если, конечно, считать основой дружбы валяние в угольном подвале и совместное поедание черствых пирожков с повидлом, которых можно было купить дюжину на пятак у булочника на углу. Бледный Кешка дождался, когда уберется очередная недовольная покупательница, и шмыгнул в лавку. Рода привычно улыбнулась:

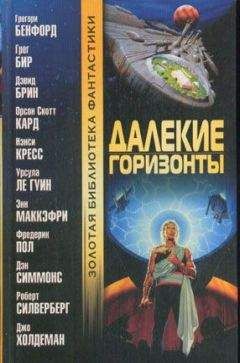
![Альфред Ван Вогт - Чудовище / The Monster [= Пятый вид: Загадочное чудовище; Воскресшее чудовище; Возрождение]](https://cdn.my-library.info/books/56738/56738.jpg)
