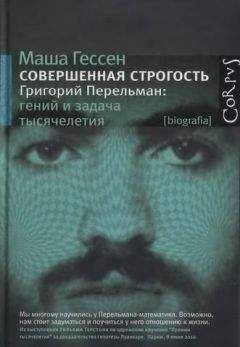— Лесана, нам ехать надо… — Тамир зашарил в темноте руками.
— Какое "ехать"? Спи! Только-только ожил. Да и не поедешь никуда. Дождь вон который день. Уймись.
— Дождь?
— Да. А у нас еще Лют. Увязнет по брюхо, как его тащить?
— Какой еще Лют? — не понял колдун.
— Да волколак. В клети сидит. Другой раз покажу. Спи.
Тамир послушно закрыл глаза, про себя думая о том, что сознание его словно раздвоилось, и теперь жили в нем одни воспоминания особняком от других. А еще все тело ныло, будто избитое палками. И спать не хотелось.
На примятом сеннике он проворочался до утра. Хотелось встать, выйти из избы, вдохнуть сырого свежего воздуха, собраться с мыслями. Но голова кружилась от слабости.
Подняться на ноги, опираясь о плечи Лесаны, колдун худо-бедно смог только на следующий день.
* * *
Распутица нынешней осенью выдалась ранняя. Урожайник исходился дождями, будто оплакивал горькую человеческую долю — сгибших летом людей. Дороги раскисли. Даже в Старграде, где улицы были мощены деревянными плашками, и то из домов не казали носу без нужды. Фебр почти не ездил по требам — лесные дороги оказались таковы, что лошадь проваливалась в грязь едва не по стремена…
Посему отправить Клёну в Цитадель к отцу у ратоборцев не получилось — пока стояла сухая погода, торговые поезда, как назло, не шли в ту сторону, а потом из-за дождей не стало вовсе никаких обозов.
Девушка втайне радовалась отсрочке. Обережники сидели дома, и если ходили куда, то только внутри городских стен, а Фебру и вовсе не случалось, он спал и ел, ел и спал. Клёне отчего-то это нравилось. Он просыпался поздно, всклокоченный и неизменно веселый:
— Что, птичка, чирикаешь уже?
Она улыбалась и собирала ему на стол. И на сердце было так тепло…
Ратоборец ел, на пару оборотов отвлекался на какие-то мелкие дела, а потом обедал и сызнова падал спать. Если в избе никого не было, Клёна любила незаметно сесть рядом и смотреть на него. Он дышал спокойно и ровно, и лицо было… такое красивое. Даже сломанный нос его не портил.
Как-то Фебр спросил:
— Птичка, что ты тут сидишь? Хоть бы на крылечко выходила, подышать, пока я тут храплю.
— Ты не храпишь.
Он рассмеялся и потрепал ее по макушке:
— "Не храпишь"… Нос-то сломан.
— Я тебя за плечо трогаю, ты переворачиваешься и не храпишь, — заупрямилась она, не желая сидеть на крыльце, словно старая бабка.
Тем более, когда в избе был он.
Дни тянулись ленивые, монотонные, дождливые, но отчего-то уютные. И так не хотелось уезжать! А еще таилась в сердце надежда, что, может, и не придется.
Фебр подарил ей серебряную куну. Тяжелую. Клёна отродясь таких денег не держала в руках.
— Зачем? — спросила она.
— Пусть будут. Без денег в этакую даль как отправляться? Мало ли что… да и просто…
Она сжала монету в ладони, понимая, что никогда-никогда в жизни не решится ее потратить, что будет всюду ее таскать и, если придется совсем тяжко, доставать и греть в ладонях. И, наверное, со временем серебро из потемневшего станет блестящим, как маленькая луна.
А потом ее счастье закончилось. Потому что дожди, дотянувшиеся до середины листопадня, прекратились, поднялись ветра, которые просушили землю. В Старград потянулись обозы. Было их немного — осенью дни короткие и ночи темные, сырые, путешествовать — радости мало, только из нужды… Обозники вести несли диковинные, о новом укладе, объявленном Цитаделью. Клёна не очень понимала, что изменилось, да и не особо любопытствовала, слышала только из рассказов приезжих обережников, мол, новый Глава то, новый Глава сё… Когда ратоборцы приезжали, она старалась не попадаться им на глаза — краснела и смущалась.
Все оттого, что один из заезжих как-то, увидев ее, спросил Фебра, мол, это чья ж краса ненаглядная тут живет?
— Живет вот, — отмахнулся Фебр, не желая болтать о родстве девушки с креффом. Мало ли.
— Твоя, что ли? То-то, гляжу, глаза у тебя масляные, а у нее — счастливые…
Клёна почувствовала, что удушающе краснеет, и прикрыла зардевшееся лицо рукавом.
Незнакомый ратоборец расхохотался, увидев ее смущение, а Фебр осадил его:
— Языком не трепи. Думай, что говоришь. Зачем девочку срамословишь?
— Э-э-э… так новый Глава жениться разрешил, почитай что благословил…
Клёна совсем задохнулась от стыда и выбежала из избы.
— Язык у тебя… — досадливо махнул рукой Фебр на воя.
Девушка же стояла на крылечке, тяжело дышала и вдруг впервые поняла, сколь странно ее житье-бытье в одной избе с тремя мужиками, двое из которых были вовсе не старыми. Она-то по глупости все видела в них спасителей, а со стороны… ой… стыдобища! Как в глаза-то людям теперь смотреть?
Но слова обережника о женитьбе запали в душу, и сердце сладко замирало, когда она представляла… ой…
С той поры всякий раз, когда приезжали гости, Клёна пряталась, уходя ночевать хоть в баню, хоть в клеть, только б со сторонних глаз долой.
А потом наступил ветрень. Он принес с собой первые заморозки, первый снег, который быстро растаял и снова превратил дороги в кашу. Лишь к середине месяца установился крепкий санный путь, а морозы ударили… дух перехватывало!
Как не держи время, а оно пусть и медленно, но течет. Клёна понимала — вот-вот настанет пора прощаться. То и дело душили слезы, но она не давала им пролиться. Плакала сердцем. И сама себя не понимала.
Ясным слепящим утром, когда солнце так блестело на сугробах, что было больно глядеть, девушка услышала на дворе оживление. И показалось, весь мир перевернулся. Потому что злое предчувствие кольнуло сердце, будто иглой. Знать, все же прибыл в Старград обоз, идущий, хоть и не напрямки, но до Цитадели… Клёна стиснула вспотевшей ладонью серебряную куну, висящую на одном шнурке с оберегом — в полотняном мешочке. Его подарок…
Они расстаются! Может, он все поймет? Должен ведь понять! А не поймет, так она скажет. Что ночи не спит, о нем думает, слушает его дыхание, а едва глаза закроет, так он ей снится. Светловолосый, светлоглазый, со своим сломанным носом и жесткими губами, уголки которых приподняты, будто в полуулыбке.
Клёна завернулась в шерстяную накидку, вышла на высокое крыльцо и застыла, держась одной рукой за резной столбец. Фебр о чем-то говорил с крепким незнакомым мужчиной в черном облачении ратоборца. Солнце сияло. День-то какой! Отчего же хочется прижаться лбом к холодному дереву, вцепиться, чтобы оторвать не смогли, и кричать от боли и страха?
Словно почувствовав ее отчаяние (а скорее — не отчаяние, а взгляд) молодой обережник вскинулся.
— Клёна! — Он улыбнулся.