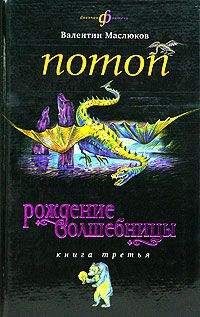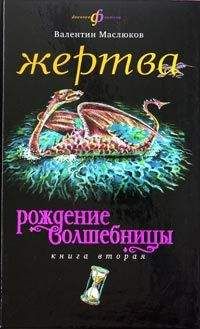Поначалу Юлий не загадывал далеко, рассчитывая возвратиться если не к ночи, то на следующий день, но все ж таки неладно было уезжать даже на самый короткий срок, не повидавшись с доверенными людьми. Так он и сделал, бояре, в свою очередь, с готовностью заверили государя, что дела нисколько не пострадают, если он решится развеяться от утомительных и вредных в чрезмерном количестве трудов недельку или другую. Верно, бояре не слишком кривили душой, потому что в стране, как понимал и Юлий, наступило известное успокоение.
С этим он уехал и к вечеру, гонимый душевной смутой, оказался так далеко от столицы и от всякого жилья, что не было и речи, чтобы возвращаться и вообще искать какой-либо ночлег, кроме того, что можно найти на охапке сухой травы под плащом.
Костер затушили, спутники, угадывая настроение государя, примолкли, слышен был только лес, умиротворенные шорохи чащи. Закутавшись в плащ, Юлий глядел на звездное небо, тоже тихое и покойное, неизменное что вчера, что сегодня, — вечное. Звездная тишь представлялась ледяной бездной, где заморожено прошлое, заморожено будущее. И невозможно понять, сколько прошло с той давней, вчера только миновавшей поры, как Юлий, бежав от Обрюты, смешался с толпой бродяг. Калеки, попрошайки, воры, отставшие от матерей дети и сбившиеся с пути женщины — эти люди и сейчас еще брели по тем же самым дорогам, а Юлий, впадая в оцепенение, терял черту между тем и этим, переставал различать, где он и кто он, что было сном: дорога или дворец, пропахшее потом рубище или надушенные кружева. Все было сновидение и все действительность — и Золотинка, и заслонившая ее девушка с белыми, призрачными волосами.
Прошлое путалось с настоящим, настоящее становилось прошлым, сон переплетался с явью, и Юлий не долго ждал, чтобы колючую россыпь звезд покрыла ломаная тень, в изменчивых очертаниях которой не трудно было узнать змея. Юлий понял, что придется сражаться. В руках не было ничего, кроме боевой метлы, коротко остриженного пучка березовых прутьев на длинном древке.
Покрывая собой полмира, змей навалился мраком, а Юлий едва переставлял ослабевшие в путах вязкого страха ноги, и хотя ничего не двигалось, ночная пустыня не изменялась, как ни напрягался в отчаянном стремлении спастись Юлий, он выбежал из тьмы в свет и понял, что увернулся, оставил чудовище позади — оно грянуло наземь, вскинув звездные крылья ночи. Юлий отмахнулся метлой. Несколько остервенелых ударов обратили покрытую броней гору в чучело из лозы и рогожи, но упрямое чучело, несмотря на зияющие раны, продолжало двигаться — на колесах.
Юлий уразумел ошибку: испугом своим он навлек на себя кару этой злобной видимости, этого ярко раскрашенного ничто. Незачем было пугаться, бежать, с безобразной яростью колошматить сплетение лозы и рогожи — чучело! Подделка. Подлог. Он это понял, но поздно — роковая заминка, лишний удар в рваную пустоту чудовища — и чучело, не сходя с колес, вновь обратилось змеем. То есть Юлий знал, что это все же обман, что чучело… или, напротив, змей притворяется крашеной уродиной, скрывая до поры зубы, змеиные свои глаза, разинутую до самого чрева глотку — поздно бежать! Юлий остановился.
С бешенством ярости и отчаяния, схвативши метлу, как бердыш, он огрел чудовище поперек шеи, перебил крыло, саданул в брюхо — броня лопалась, обнаруживая пустое нутро, и Юлий уж знал, прежде чем увидел, что в сплетенном из лозы брюхе таится Золотинка, то ли проглоченная, то ли сама змей. Знал, но продолжал крушить без разбора.
Она закрылась руками, занесенную метлу нельзя было остановить, задохнувшись от ужаса, он попал по рукам, потому что никакого змея уж не было. Он хотел закричать, чтобы проснуться и, может быть, закричал, но проснуться все равно не сумел и сказал с необыкновенным бездушием:
— Отойди, не мешай!
Она, и в самом деле, исчезла. Или обратилась в змея, змей, колыхаясь, — гора чешуйчатой брони — надвигался на Юлия, который, имея в руке меч, ударил звенящую чешую и попятился. Еще удар — Золотинка, зажимая рану, упала. Юлий немо вскричал, опять понимая в этот ужасный миг, что спит и что надо проснуться, ужаса одолеть не смог и продолжал дрожать, безнадежно упустив случай бежать из сна в явь.
— Не ори, — сказала Золотинка довольно спокойно, несмотря на разверстую мечом рану, которую, впрочем, он уже не мог разглядеть, хотя и видел, что была. — Не ори, не в лесу.
— Но я люблю тебя, — сообщил Юлий без всякой надобности, чтобы оправдать свой испуг, наверное.
— Пустяки! — отмахнулась седая девушка, имея в виду и любовь, и рану сразу. — Ты принимаешь меня за кого-то другого.
«Ага! — сказал он себе, понимая, что это важно. — Ага! Вот оно что!» — отметил он, стараясь запомнить эту мысль накрепко, чтобы не забыть ее, когда проснется. «Она призналась. Я принимаю ее за кого-то другого».
И действительно, это была Милава. Совершенно, одетая, в то время как Юлий оказался совершенно голый. Он почувствовал ужасное неудобство, потому что Милава была не одна, вокруг бродили, слонялись, занимаясь своими делами, люди, которые не замечали этого безобразия и вообще не видели ничего необычайного в том, что они все одеты, а Юлий без штанов и в слишком короткой рубашке, не прикрывающей того, что следует прикрывать. Он тоже делал вид, что ничего не произошло, и даже не закрывал срама горстью, чтобы не выдавать себя, не привлекать тем самым внимания к занимательному положению, в котором оказался помимо воли. Однако мучительный стыд его не многим уступал едва только пережитому ужасу.
Тем более, что нужно было поддерживать разговор и участвовать в общей жизни одетых людей, которые не хотели признавать его затруднительного положения и не делали ему никаких скидок, обращаясь с какими-то пустыми замечаниями.
Оказалось, что это заседание государевой думы. А Юлий по-прежнему без штанов. И думный дьяк, бросив на него сострадательный взгляд, переходит к следующему вопросу.
— Вот эта женщина, — говорит он, указывая рукой на Милаву.
Юлий уж соскользнул было с кресла, чтобы бежать, но вынужден бочком-бочком опять влезать на сидение. Он пытается натянуть пониже рубаху, чтобы прикрыть срам, но это позорное движение тотчас замечено, в думе укоризненный шум. Юлий должен отказаться от попытки. Он принимает царственный вид, насколько это, конечно, возможно, не имея на себе штанов и вообще ничего ниже пояса. Щеки его пылают огнем, но думный дьяк не имеет возможности оказать Юлию какие-либо поблажки, дьяк уже очинил перо и обязан пустить его в ход.
— Хочу, чтоб ты меня понял, — обращается к Юлию Милава, от который пахнет лекарственным снадобьем против ушибов. Думный дьяк строчит пером, записывая речи истицы в огромную книгу. — Хочу, чтобы меня понимали! — повторяет Милава, пьяно улыбаясь. А Юлий, прошибленный потом, не находит слов растолковать им, что все понимает и в силу этого просит избавить его от дальнейших — несвоевременных — объяснений. Дьяк обмакнул перо и ждет ответа, вся дума, преисполнившись злорадства, ждет, чем Юлий ответит на справедливое требование истицы: хочу, чтоб ты меня понял!