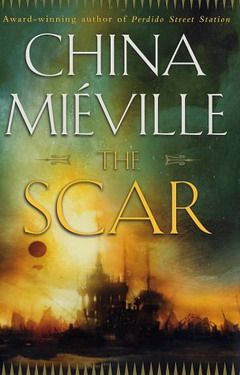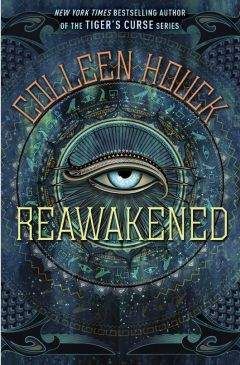— Странный меч, — сказала Беллис чуть погодя. Он помедлил мгновение (Беллис поняла, что впервые увидела у него проблеск неуверенности), потом вытащил оружие правой рукой и протянул ей — посмотрите.
У основания его ладони виднелись три маленькие металлические заклепки, словно внедренные в плоть и соединенные с пучком проводов в рукаве, уходившим к коробочке у него на поясе. Эфес меча был отделан кожей, но не полностью: оставалась полоса металла, которой касались заклепки, когда Доул брал меч в руку.
Как и предполагала Беллис, металл клинка не был травленым.
— Можно потрогать?
Доул кивнул. Она постучала ногтем по плоской части клинка. Раздался глухой, сразу же гаснущий звук.
— Это керамика, — сказал Доул. — Больше похоже на фарфор, чем на металл.
Острые кромки меча не отличались тем характерным матовым блеском, который обычно свойствен заточенному клинку. Они были такими же бесцветно-белыми, как и плоская часть (белыми с желтоватыми пятнами, цвета зубов или слоновой кости).
— Он перерубает кость, — тихо сказал Доул своим мелодичным голосом. — Вы такой керамики прежде не видели. Она не гнется и не поддается. В ней нет гибкости, но нет и хрупкости. И она прочная.
— Насколько?
Утер посмотрел на нее, и она снова почувствовала его уважение. Что-то внутри нее ответило ему.
— Как алмаз, — сказал он.
И вложил меч в ножны (еще одним быстрым, изящным движением).
— И откуда он? — спросила она, но он ей не ответил. — Оттуда же, откуда и вы?
Собственная настойчивость и… что? смелость? удивили ее. Ей не казалось, что она проявляет какую-то особенную смелость. Напротив, ей казалось, что они с Утером Доулом понимают друг друга. Дойдя до дверей, он повернулся к ней и поклонился на прощание.
— Нет, — сказал он.
Дать менее точный ответ было бы затруднительно. Беллис впервые увидела на его лице улыбку, которая тут же исчезла.
— Доброй ночи, — сказал он.
Беллис воспользовалась мгновениями одиночества, которого так жаждала, погрузилась в общение с собой. Она глубоко вздохнула и наконец позволила себе удивиться насчет Утера Доула. Ей было не взять в толк, почему он говорит с ней, почему терпит ее общество, почему, как ей кажется, уважает ее.
Он был тайной для Беллис, но она сознавала, что чувствует какую-то связь с ним, нечто, сотканное из свойственных им обоим цинизма, бесстрастности, силы, понимания и… да, взаимного притяжения. Она не знала, когда или почему перестала бояться его. Она понятия не имела, чем он занимается.
Два дня, потом три, потом прошла целая неделя, и каждый день Беллис проводила в той маленькой комнате, при неверном освещении. Беллис казалось, что ее глаза атрофируются и теперь могут видеть только оттенки породы в помещении внутри горы, где царят полутона, бесформенные тени.
Вечером она совершала неизменную короткую пробежку по открытому воздуху (она поднимала голову, с жадностью впитывая естественный свет и цвета, пусть даже выжженные цвета неба над островом). Порой она слышала вопли местных женщин, вызывавшие ужас. Иногда она, впрочем, оставалась спокойной, но всегда держалась поближе к сопровождавшему ее охраннику — какту или струподелу.
А иногда она слышала возню и бормотание самок-анофелесов за глубокими проемами окон. Комарихи были настоящими чудовищами. Они убивали любого кровехода, высадившегося на берег, могли за один-единственный день обескровить целый корабль, а потом лежать с раздутыми животами на берегу. И тем не менее было что-то невыносимо жалкое в этих женщинах, населяющих остров-гетто.
Беллис не знала, какая цепочка событий привела к возникновению Малярийного женоцарства, она их не могла их даже вообразить. Невозможно было представить себе эти визгливые существа на других берегах, невозможно было допустить, что эти ничтожества терроризировали половину континента.
Пища армадцев была так же однообразна, как и окружающая обстановка. У Беллис язык онемел от вкуса травы и рыбы, и она флегматично жевала любые пропитанные ржавчиной дары моря, выловленные кактами в бухте, любые съедобные растения, которые они смогли добыть.
Самхерийские офицеры терпели их присутствие, но доверять не доверяли. Капитан Сенгка продолжал проклинать кактов-армадцев, сыпля ругательствами на сунглари, называя их оборотнями и предателями.
Лихорадочные ежеутренние расчеты вызывали у ученых все большее и большее волнение. Стопки бумаг с формулами росли с каждым днем. Воодушевление Круаха Аума (Беллис считала, что оно объясняется искренним любопытством), отличавшее его от остальных анофелесов, все усиливалось.
Беллис боролась и не сдавалась. Теперь она переводила, даже не делая попыток понять, что переводит, просто пропускала слова через себя, словно представляла собой некий аналитический механизм, который раскладывает, а потом воссоздает формулы. Она знала, что для людей, сгрудившихся за столом и дебатирующих с Аумом, она более или менее невидима.
Он сосредоточила свое внимание на голосах, словно они были музыкой, — размеренный, звучный голос Тинтиннабулума, возбужденный отрывистый — Фабера, мелодичные модуляции биофилософа, имя которого ей никак не давалось.
Аум был неутомим. У Беллис от усталости слегка мутилось в голове, когда она садилась за работу с Флорином Саком и другими инженерами-механиками во второй половине дня, а вот Аум — тот продолжал без видимых затруднений, легко переходя от концептуальных вопросов и философии аванка к практическим проблемам приманки, управления и поимки животного размером с остров. Когда же сумерки и всеобщая усталость вынуждали всех закончить дневные труды, Аум уходил последним.
Беллис прекрасно понимала, что исследовательские проблемы преодолеваются одна за другой. Аум довольно быстро переписал приложение заново, а потом армадцы указали ему на ошибки в расчетах, пробелы в его исследовании. Волнение ученых было ощутимо, они чуть ли не были пьяны этим чувством. Перед ними стояла проблема — проект немыслимых масштабов, и, одно за другим, все возражения, проблемы, препятствия разрешались.
Они вот-вот должны были достичь чего-то необыкновенного. От близости свершения кружилась голова.
Беллис не сдружилась с армадцами, но ей каждый день приходилось общаться с ними. «Вот, возьмите. Поешьте», — говорил кто-нибудь, давая ей тарелку с жесткой тушенкой, и отказать доброхоту в словах благодарности было бы просто немыслимой грубостью.
Время от времени по вечерам, когда армадцы садились играть в кости или петь песни, погружавшие в транс безголосых анофелесов, она ловила себя на том, что ей хочется поговорить с кем-нибудь.