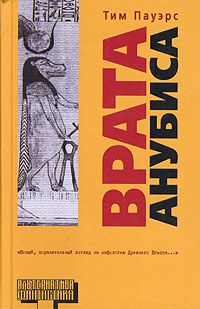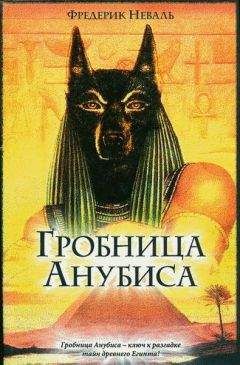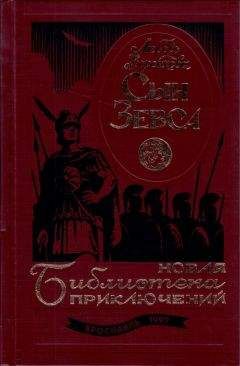– И мертвые цепляются за берега подземной реки, – продолжал Ромени шепотом, – и молят взять их на борт ладьи бога солнца, ибо, если кому-то посчастливится забраться на нее, они вместе с Ра обновятся и выплывут в мир живых. Некоторые даже подплывают и цепляются за нее, но змей Апоп хватает и пожирает их.
– Так вот о чем он... то есть я говорил в своей поэме, – пробормотал Дойль. Он поднял взгляд и заставил себя невозмутимо улыбнуться. – Я уже плавал по реке с часами вместо верстовых столбов, – заявил он. – Я совершил по ней два далеких путешествия и, как видишь, жив и здоров. И если меня сунуть в эту твою подземную реку, ручаюсь, я вынырну на заре как новенький.
Это заявление изрядно рассердило доктора Ромени.
– Болван, никому...
– Мы ведь плывем в Египет, правильно? – перебил его Дойль.
Единственный глаз зажмурился.
– Откуда ты знаешь?
– Я много чего знаю, – улыбнулся Дойль. – Когда приплываем?
С минуту Ромени хмурился, потом, видимо, решил забыть свою злость и почти дружелюбно ответил:
– Через неделю или десять дней, если только этот сброд на полуюте сумеет вызвать Шеллинджери – духи ветра вроде тех, что Эол дарил Одиссею.
– Ага. – Дойль безуспешно попытался заглянуть сквозь туман на корму. – Это что-то вроде тех огненных великанов, что сошли с ума у док... я хотел сказать, у тебя в лагере?
– Да! Да! – вскричало существо, хлопая босыми пятками. – Отлично. Верно, они – родственники. А есть и еще, духи воды и земли. Посмотрел бы ты на духов земли – это огромные движущиеся скалы...
Оглушительный, разрывающий воздух свист – скорее визг – ударил по кораблю, заставив завибрировать все плохо закрепленные доски; Дойль выглянул в оконце; на долю секунды ему показалось, что какой-то реактивный лайнер – «Боинг-747», не меньше – совершает вынужденную посадку на воду, точнее, прямо им на голову, – и тут его вжало в дверь. С кормы корабль подхватила стена ветра и так туго натянула паруса, что некоторые не выдержали и лопнули. Нос корабля опустился, потом выпрямился, и судно устремилось вперед.
Несколько секунд, пока корабль и все, что на нем находилось, свыкались с новой скоростью, переборка, к которой Дойля прижало спиной, казалась скорее полом, чем стеной, так что, когда ящик-гроб пополз к нему по палубе, он просто поджал ноги, ни за что не держась, и позволил ему ткнуться в стену под собой. Потом корабль набрал ход, земное притяжение вновь стало нормальным, и он упал в ящик на четвереньки. Сквозь визг ветра он услышал, как о палубу разбилась первая встречная волна.
Дойль поднялся, вцепился в прутья решетки и, щурясь от ледяного ветра, стал выискивать ходячие останки Ромени, но существо исчезло. Надеюсь, за борт, подумал Дойль, хотя утонуть оно все равно не сможет, так и будет плыть следом, словно огромный жук. Корабль трясло, как автобус, несущийся по свежевспаханному полю, но Дойлю удалось продержаться у окна достаточно долго, чтобы разглядеть на полуюте несколько пригнувшихся фигур. По крайней мере это рассеет туман, подумал он, потом отпустил прутья, сел и протер слезящиеся глаза.
Шло время, но холод все так же пронизывал до костей, и судно все так же швыряло на волнах. Дойль только теперь оценил по достоинству и возблагодарил судьбу за то, что находится в теле Беннера – его собственное давно бы уже страдало морской болезнью, – хотя все равно хорошо, что он не успел съесть салат из лобстеров, купленных Байроном.
Где-то около полудня сквозь прутья в его камеру протолкнули две вещи: бумажный сверток, упавший на пол, – там была солонина и черствая краюха черного хлеба, и жестяное ведерко, повисшее на цепочке, – в ведерке оказалось слабое пиво. Учитывая то, что в «Лебеде» поесть ему так и не удалось, получалось, что он не садился за стол Бог знает сколько времени, – поэтому Дойль проглотил все это с подлинным наслаждением и даже облизал оберточную бумагу.
Часов через шесть процедура повторилась, и он снова съел все без остатка. Вскоре начало темнеть, хотя ветер и тряска не унимались. Дойль уже начал подумывать, как бы ему устроиться поспать, но тут как раз через решетку пропихнули пару одеял.
– Спасибо! – крикнул он. – А пива еще можно?
В камере было темно, но не совсем, и Дойлю удалось соорудить из своего гроба вполне недурную постель; уж было собравшись укладываться спать, он с удивлением услышал позвякивание – ведерко поднимали за цепочку, а потом опустили – наполненное.
Дойль вскочил и подошел к двери, пытаясь не расплескивать пиво, он размышлял, почему же его не слишком пугают положение пленника и перспектива пыток и мучительной смерти. Впрочем, ничего удивительного – это все из-за той бездумной самоуверенности, которая не оставляла его с того момента, как он обнаружил себя в теле, оказавшемся куда лучше своего, привычного, – хотя... Нет, все-таки этот упрямый оптимизм основан на знании того, что он, Вильям Эшблес, не умрет раньше 1846 года. Поосторожнее, сынок, предупредил он себя. Выжить ты, конечно, выживешь, но вломить тебе пару раз могут.
Несмотря на все это, он, усаживаясь поудобнее, улыбался, так как думал об Элизабет Жаклин Тичи, на которой должен был жениться через год. На портретах она всегда казалась ему красавицей.
Плавание – на протяжении которого ветер не стихал ни на минуту, так что спустя пару дней те матросы, которых Дойль видел сквозь свою решетку, почти привыкли к нему – продолжалось пятнадцать дней, и за это время Дойль не видел больше ни разу ни Романелли, ни бесплотных останков доктора Ромени. До тех пор, пока старая, перегруженная балка под потолком не треснула, все, что делал пленник, сводилось к еде, сну, наблюдениям из окна и попыткам вспомнить все, что известно о путешествии Эшблеса в Египет. После того как балка треснула, он заполнил свой досуг, отломав трехфутовую щепку и пытаясь зубами и ногтями превратить часть ее длиной примерно в фут – в подобие деревянного кинжала. Он прикинул возможность оторвать ведерко от цепочки, с тем чтобы использовать жесть как инструмент, но отказался от этой затеи: с одной стороны, это не прошло бы незамеченным и могло стать причиной обыска по прибытии, а главное – это лишило бы его пива до самого конца плавания.
Только раз случилось нечто, не уступающее по драматизму появлению Шеллинджери. Как-то около полуночи, на одиннадцатую ночь с начала плавания, Дойлю показалось, что сквозь визг ветра он слышит чей-то плач, и он сделал попытку выглянуть, что не уступало по сложности вождению мотоцикла на скорости семьдесят миль в час без очков. Через десять минут он вернулся в постель, наполовину убедив себя в том, что черная ладья, видимая только потому, что была еще чернее ночных волн, не более чем обман зрения. Что, в конце концов, делать ладье посреди моря?