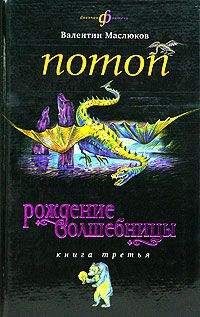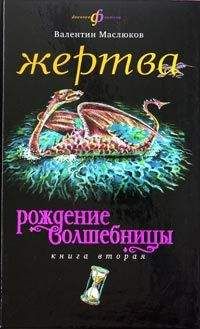Лепель, вставленный в раму кукольного балагана, засмеялся, не разжимая губ, и почесал макушку. Вопреки обыкновению он был необыкновенно молчалив и сдержан.
— Все переменилось, Юлий, — сказала Нута, словно желая пресечь надежды. Юлий торопливо кивнул, заранее соглашаясь со всем, что имела заявить его бывшая жена, недолгая государыня и княгиня, ставшая затем кукольницей. — Той бедняжке казалось, что она тебя очень любит, но больше всего она любила свою любовь, а значит, саму себя. Теперь же мне кажется, что я люблю весь мир. Но это такой же обман, потому что на самом деле я люблю Лепеля.
Густая толпа, что обступила балаган, выказывала необыкновенную для племени скоморохов сдержанность — не слышалось легкомысленных замечаний, обычного, не сдержанного никакими приличиями и общественными перегородками зубоскальства, скоморохи переговаривались между собой, если случалось, приглушенными, едва ли не благоговейными голосами, и уж никто не вмешивался в разговор. Причиной этому следовало, по видимости, считать не одну только осмотрительность, понятную, когда имеешь дело с государем, но и особенное отношение к Нуте, высокое человеческое достоинство которой имели здесь предметом своей общей ревнивой гордости. Скоморохи словно бы представляли Нуту государю, и, похоже, они едва ли простили бы ему малейшее неуважительное движение.
— Не нужно ли тебе чего? — спросил Юлий, остро ощущая убожество своей скованной, приземленной мысли.
Нута же отвечала не сразу, и это показывало, что она отнеслась к предложению вполне ответственно.
— Я слышала, что оставшийся от правления Могутов древний закон приравнивает странствующих скоморохов к пропавшим бражникам кабацким. И там, в этом законе, будто бы есть такие нарочные слова, в насмешку: а походным скоморохам за бесчестье тень обидчика.
Ропот за спиной Юлия говорил, что унизительный приговор известен был развеселому люду слишком хорошо.
— И еще говорят, — продолжала Нута, — в суде свидетельство четырех странствующих скоморохов приравнивается к свидетельству двух оседлых или одного горожанина домовладельца.
— Безобразный закон! — воскликнул Юлий с горячностью, которую трудно было от него ожидать в продолжении этого неловкого разговора. — Законы нужно пересмотреть. Обещаю!
Не выказывая особенной благодарности, Нута кивнула, удовлетворенная естественным обещанием Юлия. Не удовлетворился однако Лепель.
— Государь, — напомнил он о себе из балагана, — нужны деньги.
— Да, — живо откликнулся Юлий, — конечно! — Ему казалось излишним и, может, даже не совсем приятным для Нуты касаться самоочевидных вещей принародно. Он чувствовал, что не вправе — не скромно это и не верно — навязываться со своими благодеяниями. Да и что он мог дать своей бывшей не долгой жене, растерзанный сомнениями, неудовлетворенный собой и несчастный? Что он мог дать ей теперь, когда она прекрасно без него обошлась?
Но опять, наверное, он поспешил с умозаключениями, ошибся (и осознал это с ощущением вины), не известно почему полагая, что деньги его будут благодеянием. Нута не видела тут благодеяния и ничего такого вообще, что могло бы поставить ее в неравное или неловкое положение, она не выказывала ни малейшего побуждения одернуть мужа, а тот запнулся лишь на мгновение.
— Мы с Нутой задумали кое-что. Дворец кукольных представлений… нечто небывалое. Дух занимается от одного замысла. И надо бы на первый случай, если скромно…
— Хорошо, мой друг, — перебил его Юлий, не давая Лепелю, по крайней мере, доводить дело до расчетов и сметы. — Вы получите сколько нужно.
— Мы посчитали…
— Сколько нужно для самого блистательного замысла, — повторил Юлий с нажимом, и Лепель наконец понял, поспешил закруглить разговор благодарностями.
— А что, — начала Нута, перебивая мужа, — правду говорят, что Золотинка сейчас в Колобжеге?
Вопрос застиг Юлия врасплох, он осекся. Нельзя было соврать и правду нельзя было говорить — не мог он врать, глядя в ясные, чистые глаза Нуты.
— А вы едете в Колобжег? — спросил он вместо ответа.
— Да.
— Нута выбрала Колобжег, мы все туда едем, — заметил кто-то в толпе непонятно зачем.
— Я еду с вами.
Скоморохи как будто только и ждали этого: грянуло общее ура! Завопили жалейки и дудки, вышел из себя, рассыпался грохотом барабан, и заревел медведь, замолкший было по причине неестественной тишины.
Так что Юлий не скоро сумел заговорить, чтобы добавить несколько слов:
— Не так шумно, друзья мои, — заметил он, улыбаясь. — Не надо шума. Оставим это все между нами — если вы умеете хранить тайну. А я буду называться… я приму имя…
— Раздериш, — неожиданно мрачным голосом подсказал Лепель.
— Ну да, — вскинул глаза Юлий. — Пожалуй. Именно так: Раздериш.
Новое имя Юлия удивительно подходило к его раздерганным чувствам.
Государыня оставила собеседников — на взгляд Юлиева посланца это было презабавное собрание колбасников и других подобного рода общественных деятелей — и перешла в смежную комнату, где остановилась возле окна с нераспечатанным письмом в руках.
— Вы, значит, только что из столицы? — спросила она второй раз подряд, как отметил смешливый молодой человек.
— Только что, государыня, — подтвердил он с поклоном. Кудрявый малый с легким пухом на детских розовых щечках.
Княгиня глядела недоверчивым взглядом, который предвещал как будто тот же вопрос по третьему разу. Она словно перещупывала каждое слово гонца на достоверность, взвешивала и глядела его на свет. Пронизывающий взгляд этот напоминал смешливому молодому человеку, что прекрасная Золотинка, как бы там ни было, волшебница. Молва приписывала княгине между прочим способность видеть насквозь и глядеть на три сажени под тобой в землю. И то и другое было бы сейчас весьма некстати, ибо Юлиев дворянин Мухорт имел точное поручение государя, которое обязывало его пройти неуловимой тропкой между правдой и ложью.
— Государь здоров? Как вы его оставили? — сказала она, поворачивая письмо обратной стороной, внимание ее привлекли большие печати красного воска.
— Милостью божьей совершенно здоров, — заверил Мухорт с очередным поклоном. — Я имел честь сопровождать государя на охоту. В числе нескольких доверенных спутников.
— А где он сейчас? — спросила Золотинка мимоходом, не особенно как будто настаивая на вопросе.
Но здесь-то и подстерегала Мухорта опасность. Он поскучнел лицом и осторожно, стараясь не глядеть по бокам, где открывались равно опасные пропасти правды и лжи, произнес с полной ответственностью за каждое свое слово: