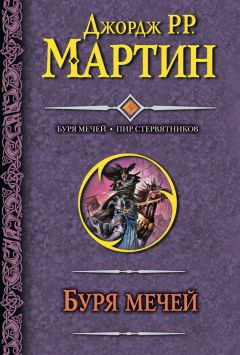«Она была мертвая, – оправдывался Варамир, морщась от костяной иглы, протыкавшей кожу. – Кто-то из ворон проломил ей голову».
«Не вороны, нет. Рогоногие, я сама видела. – Игла Колючки сновала туда-сюда. – Дикарей этих укрощать теперь некому. Если Манс погиб, вольному народу конец. И теннам тоже, и великанам, и Рогоногим, и пещерным жителям с подпиленными зубами, и тем, с западного берега, что ездят на костяных санках. Воронам – и тем конец. Ублюдки в черных плащах еще не знают, что полягут наравне с остальными. Враг близок».
Голос Хаггона отдавался в голове эхом. Ты переживешь дюжину смертей, мальчик, и каждая причинит тебе боль… Но после истинной смерти настанет новая жизнь, вторая. Говорят, она милее и проще первой.
Скоро Варамир Шестишкурый узнает, правда ли это. Истинная смерть проглядывает во всем. В едком дыму, наполняющем хижину. В жару, который чувствуешь, запустив руку под одежду, где кровоточит рана. В ознобе, сидящем в твоих костях. Последнюю смерть он претерпел от огня, теперь его убьет холод.
Тогда Варамир подумал, что какой-то лучник со Стены пронзил его горящей стрелой… но огонь пожирал его изнутри. И боль, что за боль!
Варамир умирал уже девять раз. Однажды в него метнули копье, в другой раз медведь загрыз, в третий он истек кровью, породив мертвого детеныша. Первая смерть постигла его в шесть лет, когда отцовский топор раскроил ему череп, но даже она не доставила ему таких мук, как этот огонь в кишках. Он хотел улететь, но от ужаса огонь заполыхал еще пуще. На миг он воспарил над Стеной, глядя орлиными глазами на побоище внизу. Потом сердце его обуглилось, и дух с визгом укрылся в собственной шкуре. От одного воспоминания об этом его затрясло, и он заметил, что огонь в хижине погас.
В груде обгорелых веток тлело лишь несколько угольков, но костер еще дымился – он разгорится, если добавить дров. Варамир, скрипя зубами от боли, подполз к хворосту, который Колючка собрала до того, как пойти на охоту.
– Ну, гори же, – прохрипел он. Раздувая угли, он без слов молился безымянным богам хвороста, холма, поля, но они не вняли ему.
Дым больше не шел, хижина сразу выстыла. Без кремня, без трута, без растопки огонь не разжечь.
– Колючка! – надорванным голосом позвал Варамир. – Колючка!
Подбородок у нее острый, нос сплющенный, на щеке бородавка с четырьмя черными волосками, но он дорого дал бы, чтобы увидеть ее сейчас на пороге. Надо было вселиться в нее, пока не ушла. Сколько ее уже нет – два дня, три? В хижине так темно; он засыпал и просыпался несколько раз, не зная, день теперь или ночь. «Жди, – сказала она. – Я принесу поесть». Он и ждал, как дурак. Во сне к нему приходили Хаггон, и Пышка, и все дурное, что он содеял за свою долгую жизнь, а она все не возвращалась. Скорей всего и не вернется уже. Может, он чем-то выдал себя? Может, она догадалась, о чем он думает, или он проговорился во сне?
Мерзость, произнес Хаггон где-то рядом.
– Она всего лишь уродливая копейщица, – ответил ему Варамир, – а я великий маг. Я варг, меняющий кожу, – несправедливо, если она будет жить, а я нет.
Тишина. В хижине никого. Колючка – и та ушла. Бросила его, как все остальные.
Вспомнить хотя бы родную мать. По Пышке она плакала, по нему – нет. Когда отец вытащил его из постели, чтобы отвести к Хаггону, она даже не взглянула на сына. Он кричал и лягался, пока отец, тащивший его через лес, не влепил ему затрещину. «Твое место с такими, как ты», – только и сказал родитель, швырнув его к ногам Хаггона.
«И прав был, в общем, – думал Варамир, сотрясаясь в ознобе. – Хаггон многому меня научил. Охотиться, рыбачить, разделывать туши и рыбу, находить дорогу в лесу. Научил секретам варгов, хотя его дар уступал моему».
Много лет спустя Варамир попытался найти родителей, рассказать им, что их Шишка стал великим колдуном, Шестишкурым. Но родители уже умерли, и тела их сожгли. Их прах смешался с корнями и ручьями, землей и камнем, грязью и пеплом. Так сказала матери лесная ведьма о Пышке в день его смерти, но Шишка не хотел превращаться в горстку земли. Он мечтал о песнях, сложенных в его честь, о поцелуях красавиц. «Вот вырасту и стану Королем за Стеной», – обещал он себе. Им он так и не стал, но был близок к этому. Имя Варамира Шестишкурого внушало страх людям. Он ездил верхом на белой медведице высотой в тринадцать ладоней, держал в неволе трех волков и сумеречного кота, сидел по правую руку от Манса-Разбойника. Напрасно он пошел за Мансом к Стене: надо было войти в медведя и растерзать короля.
До Манса Варамир жил что твой лорд, один в бревенчатом срубе, принадлежавшем ранее Хаггону. Звери верно служили ему, люди из дюжины деревень приносили хлеб, соль и сидр, фрукты и овощи. Мясо он добывал сам, за женщинами посылал сумеречного кота, и все, кого он желал, покорно приходили к нему. Плакали, но приходили. Варамир брал их, стриг волосы на память и отсылал назад. Время от времени какой-нибудь деревенский храбрец являлся с копьем уничтожить оборотня, чтобы спасти от него сестру, любимую или дочь – таких он убивал, но женщин не трогал. У некоторых даже дети рождались. Никчемные дурачки вроде Пышки, хоть бы один унаследовал его дар.
Страх помог Варамиру встать. Зажимая рану, он поковылял к двери, отвел драную шкуру, завешивающую вход. Перед ним выросла белая стена – снег! Не диво, что внутри так темно и дымно. Снегопад завалил хижину целиком.
Варамир налег на снежную стенку, и она сразу рухнула – мороз еще не скрепил ее. За ней стояла белая как смерть ночь; бледные облака служили свитой серебряной луне, звезды холодно смотрели на землю. Под снегом бугорками выступали другие хижины, над ними бледной тенью высилось одетое в лед чардрево. По заснеженным холмам к востоку и югу двигалась только поземка, ничего более.
– Колючка, – слабо позвал Варамир, прикидывая, далеко ли она ушла. – Где ты, женщина?
Вдалеке завыл волк.
Варамира пробрала дрожь. Он знал этот голос не хуже, чем Шишка некогда – голос матери. Одноглазый. Самый старый из трех, самый большой, самый злой. Тихоступ моложе и проворней, Хитрюга, понятно, хитрее, но Одноглазый, не ведающий страха и жалости, держит в страхе обоих.
Пока орел сгорал заживо, Варамир потерял власть над другими животными. Сумеречный кот убежал в лес, медведица задрала четырех человек, прежде чем ее пронзили копьем. Она и Варамира убила бы, окажись он поблизости. Медведица его ненавидела, ярилась всякий раз, как он влезал в ее шкуру или садился ей на спину.
Но волки…
Его братья. Его стая. Много холодных ночей он проспал вместе с ними, теплыми и мохнатыми. Когда он умрет, они обгложут его, и весной из-под снега оттают одни только кости. Эта мысль, как ни странно, внушала успокоение. Они часто охотились для него – будет только справедливо, если под конец пищей для них станет он. Очень возможно, что свою вторую жизнь он начнет, терзая собственный труп.
С собаками проще всего: они так долго жили бок о бок с человеком, что сами очеловечились. Влезать в собачью шкуру – все равно что обуваться в разношенные мягкие сапоги. Сапог шьется по ноге, а собака создана для ошейника, в том числе и незримого. Волки – иное дело. Человек может подружиться с волком, может сломить его дух, но полностью никогда его не приручит. «С волком и женщиной сходишься на всю жизнь, – часто говаривал Хаггон. – Когда вы заключаете свой союз, ты становишься частью волка, а он – частью тебя. Перемена происходит с каждым из вас».
С другими зверями лучше не связываться, предупреждал он. Кошки тщеславны и жестоки – того гляди кинутся на тебя. Оставаясь слишком долго в шкуре травоядных, лося или оленя, даже самый храбрый человек становится трусом. Медведей, вепрей, ласок и барсуков Хаггон тоже не одобрял. «Некоторые шкуры лучше не надевать, мальчик, – тебе не понравится то, что они с тобой сделают». Хуже всего, по его мнению, были птицы. «Люди должны ходить по земле. Побудешь в облаках – не захочешь возвращаться обратно. Я знал перевертышей, которые вселялись в ястребов, сов и воронов. Даже в собственной коже они грустили и все таращились на треклятую синеву».
Не все перевертыши, однако, были согласны с Хаггоном. Когда Шишке сравнялось десять, наставник ввел его в их круг. Больше всего там было варгов, братьев-волков, но другие показались мальчишке еще занятнее. Боррок как две капли воды походил на своего кабана, только клыков не хватало, у Орелла был орел, у Дикой Розы – сумеречная кошка (поглядев на них, Шишка и себе захотел кота), у Гризеллы коза…
До Варамира Шестишкурого никто из них не дотягивал, даже Хаггон – высокий, угрюмый, с жесткими как камень руками. Старый охотник умер, рыдая, когда Варамир отнял у него Серого: выгнал его и забрал зверя себе. «Не будет тебе второй жизни, старик». Тогда Варамир именовал себя Троешкурым; его четвертой шкурой стал Серый, но волк уже состарился, остался почти без зубов и скоро отправился вслед за Хаггоном.