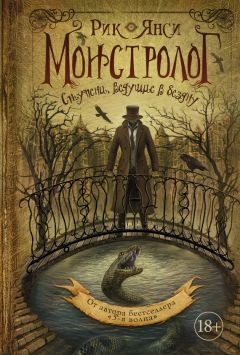Холодный ветер, паутина, окна в корке грязи, покоробившиеся деревянные рамы цвета пепла. Он что, замуровался в подвале? Или лежит наверху, без сил? Я порылся в кармане в поисках ключа. И чертыхнулся: похоже, я забыл его в Нью-Йорке.
– Уортроп! – Я опять заколотил в дверь. – Открывайте, черт вас дери!
Дверь отворилась, пронзительно скрипнув заржавленными петлями, и я увидел его, вернее, то, что от него осталось. Лицо серое, как старый штакетник. Глаза пустые, как вечереющее небо. Он сильно похудел с нашей последней встречи, кожа висит складками, губы посерели, истончились, облепив зубы, слишком крупные на фоне истощенного лица. В одной костлявой руке он сжимал грязный и рваный носовой платок, другой держал револьвер, дуло которого было направлено мне в лоб.
Мы долго смотрели друг на друга и молчали – нас разделяли порог и целая вселенная.
«Он не отвечает на мои звонки. Не открывает дверь. Но я решил, прежде чем сообщить властям, обратиться сначала к тебе. Ведь ты – его единственная семья, в широком смысле этого слова».
– Уортроп, – сказал я. – Что вы затеяли?
Его рот открылся, он произнес:
– Смотрю на него.
И упал.
Я отнес его наверх; в доме было не убрано, пыль взвихрялась под моими ногами и опускалась за моей спиной на пол. Монстролог был легок, как одиннадцатилетний мальчик. Я принес его в комнату, положил на кровать. Стянул с него ботинки. Накрыл одеялом. И сел в кресло – в то самое, где сидел двадцать четыре года назад. Сколько раз, сидя здесь, я слушал, как он ярится и ноет, читает лекции и нотации, разбирая меня по косточкам, словно я один из его чудовищных образцов. Он дышал коротко и прерывисто. Зрачки метались под черными, как уголь, веками. Как будто он не спал все эти годы, как будто, чтобы отдохнуть, ему нужен был я.
– Вы спите? – спросил я вслух. Мой голос повис в мертвом воздухе, словно туман. Он не ответил. – Да идите вы к черту, – сказал я. – Это вы заставили Моргана написать мне. Чего вы от меня хотите, Уортроп? Для меня здесь ничего нет. Да и для вас тоже, но это меня уже не касается. И никогда не касалось. Я был ребенком; какой у меня был выбор? Даже если бы вы колотили меня с утра до вечера и запирали на ночь в чулан, я все равно никуда бы не ушел.
Сидя, я снял пальто, свернул, положил на колени. Задрожал от холода. Снова надел. Дыхание превращалось в пар.
– Что я вам должен? Ничего. А если и был когда-то должен, то давно расплатился, причем стократ. Я ничего у вас не просил. Я не напрашивался на ваши… непреднамеренные жестокости.
В неестественных сумерках комнаты он не похож на старика. Скорее, на ребенка. Голодного, насмотревшегося ужасов, каких не полагается видеть ни одному ребенку. Я бы не удивился, увидев у него в руках потрепанную шапчонку на два размера меньше.
– И все же вот он я. Все в том же проклятом кресле. «Шевелись, Уилл Генри!» Я здесь, необходимый, как обычно. «Да, доктор Уортроп. Сию минуту, доктор Уортроп!» Да ну вас к черту.
Я оставляю его одного и выхожу. В доме холодно, холоднее, чем на улице; наверное, он забыл заплатить за отопление, или котел опять сломался. Я щелкаю выключателем в холле, убеждаюсь, что свет не отключили. Спускаюсь вниз, поднимаю с пола револьвер, и захожу в кухню, где застаю настоящую гуманитарную катастрофу из протухшей еды, грязных кастрюль и тарелок, зарастающих плесенью чашек с недопитым чаем. Под раковиной что-то скребется. Крысы, наверное. Я поворачиваюсь к двери в подвал – надо спуститься туда, чтобы проверить котел, хотя подвал – последнее место в этом доме, куда мне хочется заходить. Именно там я потерял половину своего детства – и часть самого себя. Да, он сохранил его – мой палец, отрезанный ножом мясника, до сих пор плавает в формальдегиде.
– Вы сохранили его?
– Ну, не выбрасывать же его было.
Он сделал это, чтобы спасти мне жизнь. Тоже непреднамеренная жестокость.
На двери висит амбарный замок. Новехонький. С иголочки. В прошлый раз ничего подобного не было.
Снова наверх. Он не пошевелился. Я стягиваю с него покрывало и ловко обшариваю карманы. Пусто. Уортроп, старый конспиратор, где ты спрятал ключ? И что у тебя там, в подвале?
Я снова накрываю его, сажусь в кресло, вертя в руках старый револьвер. Проверяю затвор. Пусто. Я негромко смеюсь. Ирония висит, как мертвые листья на деревьях.
– Я больше не приеду сюда, – говорю я ему. – Это последний раз. Вы сами постелили себе постель, вам на ней и спать. А прежде чем судить меня, вспомните – ни один создатель в истории еще не презирал своего творца.
– А как же Сатана? – Тонкий, как паутина, шепот с кровати. Значит, он не спит. Так я и думал.
– Сатана только разрушал, – отвечаю я. – Он не был создателем.
– Я говорю о том, кто сотворил его. О том, кто, любя всех, заточил его в ледяном озере на самом дне ада. Сатана ведь тоже был Его созданием: «Был некогда прекрасен столь же, сколь ныне безобразен…»
– Ну, что на этот раз, Уортроп? – простонал я. – Отчего вы умираете сегодня?
Тонкие губы раздвинулись в плотоядной ухмылке. Меня даже затошнило, глядя на него.
– Как всегда, Уилл Генри. Как обычно.
Уилл Генри-и-и-и-и!
Я снова спускаюсь во тьму. Он, как всегда, лежит на кровати, свернувшись калачиком, вцепившись обеими руками в простыни, точно ребенок, проснувшийся после невыразимого кошмара. И вот мальчик садится в кресло, зевающий и сонный, но на него не обращают внимания. Ему не нужно было общество именно этого мальчика. Он жаждал аудитории. Аудитория годилась любая.
– Почему здесь так холодно? – спрашиваю я его.
– Холодно? Не знаю. Я не чувствую.
– Когда вы в последний раз ели? Мылись? Меняли одежду? Думаете, мне не все равно, Уортроп? Думаете, я только и делаю, что ломаю голову, чем вы тут заняты в этом вашем… склепе? И нечего тут лежать и ухмыляться, как труп на поле брани. Говорите!
– Я нашел, Уилл Генри.
– Что именно?
– Ту самую вещь.
– Что? Какую еще вещь? Говорите яснее. У меня нет времени на ваши загадки.
Его глаза горели, – о, как мне был знаком этот взгляд, и как у меня заныло сердце, словно у путника в пустыне, который вдруг узрел воду, или у человека, который завернул за угол в большом городе и вдруг наткнулся на давно потерянного друга.
– «Выход за пределы Человечества невыразим словами…»
– Тут я с вами согласен, – сказал я. – Человечеству вы больше не принадлежите.
– Моя жизнь – работа, Уилл Генри.
– Работа? Уортроп, монстров больше нет, как нет и людей, охотящихся за ними.
Он покачал головой и тут же кивнул.
– Монстры будут всегда, но ты прав, я – последний в своем роде.
– Полагаю, это моя вина.
– Из тебя все равно ничего не вышло бы. Пусть лучше все кончится мной, чем посредственностью.
Я рассмеялся, услышав это оскорбление. А что мне еще было делать? Патронов-то в револьвере не было.
– Может, я и посредственность, но не по своей вине, – ответил я, снова возвращая разговор к теме творца и твари. – Разве Бог не мог сотворить Сатану прекрасным во всем? Ведь он же, в конце концов, Бог.
– Тут есть одно различие, – прохрипел старый монстролог. – Он – это он, а я нет.
– В смысле? Вы не Бог или вы не вы?
Он фыркнул и погрозил мне костлявым пальцем.
– Ни то, ни другое.
– Да, раньше вы выглядели лучше. Что с вами стряслось? – Я вдруг очень рассердился. – Что здесь происходит? Я ведь нанял девчонку – не помню ее имени, чтобы она готовила и убирала для вас…
– Беатрис, – подсказал он. Я поглядел на него внимательно: он что, шутит? Но он даже не улыбнулся. – Я ее уволил.
Я кивнул, внутренне закипая. Что-то во мне просилось на свободу, что-то темное, неуправляемое.
– Ну, еще бы! Я все думаю, Уортроп, что прикончит вас раньше: ваше титаническое эго или ваша непомерная жалость к себе?
– Это одно и то же, Уилл Генри. Всегда одно и тоже.
Я смотрел, как текут его слезы. Сколько же раз он видел мои, когда я сидел в этом кресле?
– Почему вы плачете, Уортроп? – спросил я грубо. – Думаете, ваши слезы способны вернуть меня? – Нечто во мне продолжало рваться наружу. Его дар мне, его проклятие.
– Чего вы хотите? Уилл Генри исчез; его больше нет. Вам придется свыкнуться с этим.
Он снова растянул губы. Это была не улыбка; это была пародия на нее.
– Я свыкся. А ты почему не можешь?
Мы смотрели друг на друга через разделявшее нас огромное пространство.
Он во мне.
И я в нем.
В сумраке он мог сойти за жертву одного из своих ужасных образцов – жуткая ухмылка, выпученные немигающие глаза, бледная исхудавшая плоть. В каком-то смысле он и был жертвой.
Пожалуйста, не покидай меня, молил он когда-то. Ты единственное, что еще связывает меня с людьми.
Я вхожу в спальню. Из зеркала на меня смотрит мальчик в маске мужчины: модный костюм, волосы на пробор, чисто выбритый подбородок. Его выдают лишь глаза: это по-прежнему глаза мальчика Уилла Генри, который глядит на мир недоверчиво, точно боится, что сейчас на него откуда ни возьмись выскочит что-то страшное. Эти глаза видели слишком много и слишком рано, смотрели слишком долго, не имея возможности отвернуться. «Отвернись, – шепчет мужчина мальчику в маске. – Не смотри».