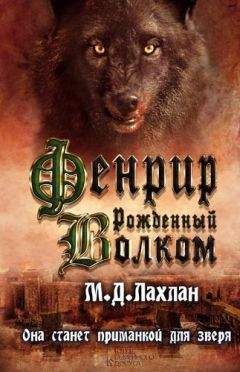Олег не знал, можно ли верить всему этому, но одно он знал наверняка. Волкодлак не сомневался, что сможет вывезти девушку из Парижа, и князю достаточно рискнуть жизнью всего лишь одного негодного купчишки, чтобы ему помочь.
Глава тридцать девятая. Вечная песнь
Вода и темнота. Холод и шум. Поющие голоса. Поющие? Жеан ничего не видел. Он был к чему-то привязан, руки крепко стянуты за спиной, а холодная вода доходила до груди. Кто-то рядом с ним пел. Григорианский распев. Слова казались странно приглушенными, и эхо явно отражалось от очень низкого потолка.
Не убоишься ужасов в ночи́, стрелы летящей днем,
Язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень[16].
Голос дрожал, не вполне попадал в ноты, однако Жеан понимал, что он принадлежит человеку, певшему в монастырском хоре. Это был псалом. Жеан чувствовал себя так непривычно, что даже не мог сказать, спит он или бодрствует.
– Кто здесь? – спросил Жеан.
Голод мучил его по-прежнему. Он сплюнул. Во рту стоял омерзительный привкус. Отрава. Да, его же отравили. Он вспомнил викингов в «теплом доме». Яд, бывший у них на губах, не убил их, они задохнулись от дыма! Мысль пришла и осталась, словно следы на песке, но в следующий миг их смыло леденящей волной голода.
Один из голосов прервал пение и произнес:
– Брат Павел и брат Симон. А кто ты?
– Брат Жеан из аббатства Сен-Жермен. – Жеану показалось, будто он перекрикивает воющий ветер. Ему было так плохо, что он с трудом соображал.
– Исповедник из Парижа?
– Да.
– Ты пришел, чтобы нас спасти?
– Я не могу вас спасти.
Человек справа от него продолжал петь:
Падут подле тебя тысяча и десять тысяч
одесную тебя; но к тебе не приблизится.
Только смотреть будешь очами твоими
и видеть возмездие нечестивым.
– Достаточно ли ты силен, брат, чтобы петь? Мы должны продолжать пение. Это бесчестие постигло нас, потому что мы позволили пению умолкнуть.
Жеан был не в силах отвечать. Он пошевелил ногой. Ноги что-то коснулось.
– Нам предстоит умереть, – сказал монах. – Слава Господу, который послал нам мученичество. – Он храбрился, однако голос его дрожал. Жеан понял, что монах замерзает. Жеану и самому было холодно, очень холодно.
– Где мы?
– В самом нижнем подземелье, в колодце Христа.
Песнопение продолжалось:
Ибо ты сказал: «Господь – упование мое»;
Всевышнего избрал ты прибежищем твоим.
– А где это?
– Из крипты начинается тоннель. Он спускается сюда, к священному озеру под землей. Северяне рубили нас без жалости. Теперь место осквернено.
Исповедник вновь почувствовал прикосновение, на этот раз к руке. Что-то еще ткнулось ему в ладони. Водоросли? Нет, у него за спиной находился некий массивный предмет. Жеан схватился за него и ощупал. Пальцы прошлись по чему-то твердому и гладкому, по полукругу выступов и впадин. Он разжал руку. То, что касалось его раньше, было волосами, а только что он ощупывал чью-то челюсть.
– Ты можешь двигаться? – спросил Жеан.
– Нет. А ты разве не связан?
– Связан.
– Тогда все бесполезно. Он будет ждать нас. Он хочет, чтобы мы умерли здесь.
Жеан сглотнул комок в горле. Его тоже трясло. Песнопение справа от него оборвалось.
Он подался вперед и закашлялся. У него на шее что-то было. Петля. Жеан попытался освободиться, вертя головой, однако стало только хуже. Теперь удавка затянулась сильнее, не настолько сильно, чтобы задушить или нарушить кровоток, но он сознавал, что дальнейшее сопротивление его убьет.
А затем Жеан увидел свет – огонек, движущийся в их сторону. Свеча. Наверняка кто-то из монахов выжил, наверняка кому-то из викингов надоело ждать, и он пришел сюда. Жеан разглядел место, в которое попал: озеро в природной пещере; своды ее сходились над головой на расстоянии вытянутой руки. Три большие колонны из известняка опускались из-под сводов в воду, и как раз к ним и были привязаны монахи. Монах справа от него пел, выдавливая из себя слова псалма. Слева пел еще один, толстый. Оба монаха стучали зубами и тряслись от холода.
Вокруг них плавали или покачивались в воде мертвые тела, бледные, словно дохлая рыба в пруду, а телесные выделения, кровь, кал и моча, исторгнутые ими в момент смерти, превратили воды в вонючее болото. Монахи были убиты, в том не было сомнений – кто мечом, кто удавкой, затянутой тройным узлом.
Ворон опустил свечу на берег озерца.
– Простите, – сказал он. – Этот ужас… он необходим.
– Нечестивец, – произнес Жеан, – чернокнижник, ведьмак… – Веревка впивалась в шею, грозя задушить его. – Я тебя не боюсь!
Ворон улыбнулся ему, но в его глазах не было радости.
– Бог хочет не твоего страха. Он ждет страха от меня. Все это… – он подыскивал слово, но так и не нашел, поэтому повторил слово Жеана, – нечестие – вовсе не мой выбор. Ты ведь не думаешь, что я, словно какой-нибудь римлянин, упиваюсь чужими мучениями.
Жеан попытался ответить, но только закашлялся.
Ворон продолжал:
– Мы оба получим то, к чему стремимся, монах. Я получу видение, а ты станешь мучеником. Когда тебя найдут, то постараются увековечить твою смерть всеми возможными способами. Паломники будут носить твои изображения.
– Я…
Жеан не мог говорить.
Ворон присел у кромки воды. Он принялся раскачиваться взад-вперед, затянув песнопение, совершенно не похожее на псалмы монахов. Звуки были зычные, гортанные, они то набегали друг на друга, то замирали, пускались вскачь и спотыкались в головокружительном северном напеве.
Фенрисульфр,
Прикованный и связанный,
Волк, прожорливый убийца,
Забота и гибель богов,
Я страдаю, как ты страдал.
За боль мою
Мне видение,
За страх мой
Предсказание…
Речитатив все длился и длился, песнопение заглушало его. Монах справа от Жеана лишился чувств, и песнь подхватил второй. Псалмы непрерывно звучали в этом месте на протяжении четырех веков. «Для чего же? – подумал Жеан. – Чтобы держать в узде этот ужас». Может быть, здешняя нечисть так долго оставалась без корма, потому что монахи несли непрестанную стражу?
От холода немело тело, от пения голова у Жеана стала похожа на перезрелую смокву и была готова лопнуть. «Ты знаешь, что они со мной сделали? Знаешь, что они сделали?» У него в ушах звучал голос, полный гнева и ненависти. Он оказался в ином месте. Точнее, место было то же самое, однако оно изменилось. Водоем исчез. Пещера стала сухой, более того – жаркой. В ноздрях щипало, а язык был словно присыпан песком. Справа от него обвивался вокруг колонны громадный змей – золотистый, красный, зеленый; у него из пасти капал яд. Он прополз у Жеана над головой, обернулся вокруг колонны, к которой тот был привязан, и переполз на колонну слева от него. А под левой колонной, привязанный точно так же, стоял странного вида человек.
Рослый и бледнокожий, с копной невероятно ярких рыжих волос, он закричал, когда змей капнул ядом ему на лицо. Кожа облезала до мяса там, куда падал жгучий яд, волосы сбились в колтуны, глаза были налиты кровью, а губы почернели и запеклись. Кислотный пар валил от тела, которое иссушал змеиный яд.
– Ты не освободишь меня, сынок? – Он умолял, крича и рыдая.
– Я тоже привязан. – В голове у Жеана внезапно прояснилось.
– Они связали тебя так же, как и меня, боги тьмы и смерти.
– Мы можем освободиться?
– Мы освободимся. Это было предсказано.
– Где же Ворон? Где эта тварь?! – прокричал Жеан.
– Ушел.
– Он заслуживает смерти.
– Он сам слуга смерти. Он служит богу в петле.
Первый раз в жизни Жеан испытал страх. Человек перед ним нестерпимо страдал, однако от одного его присутствия воздух как будто сгущался. Ужасная мысль посетила Жеана: это же ад! Гордыня подвела его, и его отправили в озеро огня.
– Ты дьявол, – проговорил он, – а это ад.
– Ад боится тебя, Фенрисульфр. Его залы содрогаются, заслышав твой голос.
– Почему ты называешь меня так? – Имя отдавалось в голове, словно гул большого колокола.
– Потому что так тебя зовут.
– Выпусти меня отсюда, демон.
– И ты станешь свободным?
– Я стану свободным.
– Тогда беги на свободу.
Внезапно Жеан снова начал задыхаться и тонуть, оказавшись в озере. Кто-то был рядом с ним в темноте, его огромная голова покачивалась рядом, дыхание опалило кожу, чудовищный вой боли и тоски, вырывающийся из его глотки, грозил оглушить навсегда. Волк был рядом с ним, привязанный к камню тонкими, но надежными путами. Его боль затопила Жеана, и он больше уже не был самим собой, он был этим волком, который пытался подняться, пытался снова дышать, жестоко стиснутый злобными путами, врезающимися в тело. Жеан порвал веревку, которой были стянуты за спиной руки, дернул петлю на шее, превращая веревку в ошметки.
Кто-то рядом с ним испускал дух. Усталое сердце билось все медленнее, вены и мышцы сжимались, неглубокое холодеющее дыхание отдавалось у него в голове. Тело среагировало само, и Жеан рванулся по воде, чтобы упиться восхитительным ритмом смерти, вобрать его в себя и выразить так, как танцор выражает музыку.