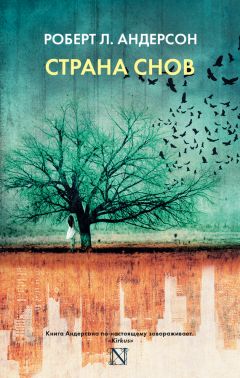И Деа решилась. Она сгребла все обратно в сумку и стряхнула приставшую грязь с одеяла, затем спихнула с подушки Тоби (кот поднялся, зевнул и улегся в шести дюймах от прежнего места), выключила свет и укрылась одеялом, не сняв шорты, футболку и лифчик, даже не умывшись и не почистив зубы. Она не могла заставить себя выйти в коридор – вдруг мать поднимется на второй этаж – или поужинать, хотя просто умирала с голоду: после молочного коктейля в «Кафе “Вокзал”» в Девитте у нее маковой росинки во рту не было.
Деа лежала в темноте, сжимая айфон Коннора, как путеводную нить. Прошло не меньше часа, прежде чем она почувствовала, как границы тела становятся мягче и открывается портал. Будто кровать превратилась в дыру, куда втягивало Деа, или она сама превратилась в дыру, и мир втягивался в нее. Мгновение, которое на самом деле могло быть секундами и даже минутами, она ощущала только покачивание и вращение, словно перестала быть человеком, став ощущениями и головокружением. Это было промежуточное, страшное, не известное разуму место, где невозможно существование. С самой первой прогулки по снам Деа смертельно боялась здесь застрять.
Чернота разошлась сверху донизу, будто разделился занавес, и Деа ощутила мягкое сосущее давление, вдруг обретя и кожу, и ребра, и легкие, расширявшиеся за ними. Она вышла из мрака, будто всплыла, и оказалась в чужом сне. У нее снова получилось.
Она попала в сон Коннора.
Деа стояла в пустой квартире. Она сразу узнала наспех сооруженную сверхструктуру – не часть сна, а инстинктивную реакцию на ее вторжение. Квартира обрисована в самых общих чертах – мебели нет, с потолка мягкими лепестками облетает штукатурка, будто дом грозит развалиться. Окон тоже не было, но когда Деа подошла, из пустых подоконников выросли рамы и элегантно застеклились, словно лед сковал поверхность пруда. Коннор пытался не пустить ее в сон.
Деа определила, что это третий или четвертый этаж. На другой стороне улицы сплошной лентой тянулись четырех-пятиэтажные дома, и в некоторых светились окна. Где-то играла рождественская песня, но звук был резкий, металлический, как у музыкальной открытки. Деа сразу узнала Чикаго – она чувствовала его в холодном воздухе, от которого едва слышно потрескивали стекла, и в ветре, который носил по улице пластиковый пакет и раскачивал вывески.
В витрине гастронома мигала вывеска «Лото». Гирлянда цветных огоньков вяло свешивалась с голубого тента. Сгущались сумерки, но на горизонте еще тлела бледно-красная полоса, словно порез на мясистых тучах, обложивших небо. Свет приобрел странный угольный оттенок, как смазанный чертеж, и только тут Деа заметила, что идет крупный снег. Хлопья были грязно-серыми, почти как пепел.
Ей стало любопытно, где Коннор. Деа ожидала, что он скоро выйдет на улицу, дуя на руки или пытаясь поймать снежинку языком, когда, как ему кажется, никто не смотрит, и удивилась, когда он появился в окне квартиры напротив. С бьющимся сердцем Деа сразу пригнулась, не сомневаясь, что он ее заметил. Она досчитала до тридцати, прежде чем рискнула выглянуть из-за подоконника. Коннора не было, но в окне мелькала незнакомая шатенка (может, мать? На мачеху Коннора женщина совершенно не походила), украшавшая елку. Комната казалась очень уютной, от нее почти ощутимо исходило тепло, и у Деа зародилось подозрение, что это сделано специально, в расчете на ее посторонние глаза, настолько все идеально. Будто Коннор знал, что она здесь, и нарочно старался. Но Деа отмахнулась от этой мысли.
Стараясь не думать о правилах и силясь не растерять решимость, она нашла лестницу, ведущую на первый этаж. Ее шаги звучали очень громко, как часто бывает во снах: Коннор думал о другом. Он всецело сосредоточился на комнате, на своей матери, на елочных игрушках. Не было ни крикливых соседей, ни сигналящих машин, ни плачущих младенцев.
Снаружи было холодно, но так, как бывает только во сне: мороз не щипал за нос и щеки, от него не перехватывало дыхание, не опухали и не болели руки – тоже благодаря сосредоточенности Коннора, который сейчас не вкладывал достаточно энергии в мир за пределами своей квартиры. Когда Деа перебегала пустую улицу по хрустящему свежему снегу, она то и дело косилась на окно, опасаясь, что Коннор выглянет на улицу и снова ее увидит.
Тогда дело примет скверный оборот – ее ведь никогда не должны видеть. Но сейчас, собираясь нарушить правила, Деа искренне не понимала, что в этом плохого. Коннор же не догадается, что это ее рук дело.
Остановившись перед гастрономом, она привстала на цыпочки и взялась за одну из лампочек на тенте. Резкий рывок – и рождественская гирлянда замигала в ее руке. Надо торопиться: Деа не знала, сколько продлится сон. В любую секунду окружающий пейзаж может поменяться, и она очутится на поле битвы или посреди океана.
Она опустилась на колени – влага сразу пропитала джинсы, отчего по телу пробежала дрожь. Ей очень нравилось, как подсознание Коннора реагирует на ее присутствие – выталкивает, усложняя ей задачу.
Разложить гирлянду удалось не сразу – провода оказались жестче, чем ожидала Деа, и длины было в обрез. Она выпрямилась – ныли плечи, начинали болеть колени. Коннор подойдет к окну и увидит, как на сером снегу разноцветными огоньками переливается слово «Извини».
Деа проснулась от имитации звона церковных колоколов – одни из любимых часов матери скорбно названивали на весь дом. Воскресенье. Нисходящая дуга синусоиды. Берег стремительно надвигается – понедельник, полвосьмого утра, первый звонок, – и Деа не в силах это остановить.
За ночь лето кончилось и наступила осень. В окно барабанил дождь, будто просясь в тепло, к стеклу липли почерневшие листья, словно ладони. Слышался свист ветра, похожий на чайник на кухне. Резко похолодало. Золотое сияние было смыто с полей, сменившись скучным монохромным оттенком мокрого дерна. Подойдя к окну, Деа увидела, как отец Коннора быстро пробежал от крыльца к машине, разбрызгивая лужи и прикрывая голову газетой, словно импровизированным зонтом.
Она натянула джинсы и любимую футболку с длинными рукавами, оставшуюся у нее с Чикаго (на локтях протерлись заметные дыры, а внизу виднелось пятно от кофе), в надежде, что она принесет ей удачу. Расчесывая пальцами волосы, Деа взглянула в зеркало, отметив, что выглядит отдохнувшей и спокойной, и на мгновение устыдилась этого. Иногда она казалась себе огромной пиявкой, живущей чужими снами.
С Мириам она твердо решила больше не разговаривать. Деа вообще общалась в основном с матерью, поэтому эту меру можно было назвать крайней – но оправданной. Она предпочла бы даже не видеть Мириам, но она умирала с голоду, а мать уже чем-то громыхала на кухне, будто решив напугать Деа так, чтобы та забыла про свой гнев.
Мириам тоже прекрасно выглядела и как будто немного поправилась за ночь – кожа гладкая, глаза ясные. В свободном кашемировом свитере, легинсах и больших вязаных носках она походила на модель из журнала о здоровом образе жизни в горах. Она уже доедала яичницу. Значит, прошлой ночью ходила в чужой сон – иначе Мириам никогда не ела по утрам. Деа еще острее почувствовала обиду. После вчерашней ссоры, когда Деа назвала мать лгуньей, это было наглой демонстрацией того, насколько ненормальна их жизнь.
И как ненормальна сама Деа – безотцовщина, ходящая в чужие сны.
– Деа!
Она не ответила. Громко хлопнув дверцей шкафчика, она достала хлопья и принялась есть их сухими, большой ложкой.
– Молока тебе налить к хлопьям? – Молчание. – Я могу поджарить яичницу. Хочешь яичницу? – Мать вздохнула и потерла лоб. – Послушай, Дидл… – (детское прозвище Деа). – Я знаю, ты на меня сердишься, но ведь все, что я делаю и всю жизнь делала, – это для твоей защиты. Ты должна мне верить. Я тебя очень люблю, кроме тебя, у меня никого и ничего нет…
Деа с грохотом поставила тарелку в раковину.
– Ну перестань!
Игнорировать мать было ужасно, но к этому примешивалось некое извращенное удовольствие, как если слишком усердно, до крови из десен, чистишь зубы нитью. В коридоре Деа натянула штормовку и сунула ноги в старые резиновые сапоги.
– Теперь всю жизнь молчать будешь? – донеслось из кухни.
Деа вышла на крыльцо и хлопнула дверью. Дыхание белым облачком повисало в холодном воздухе. Дождь лил стеной – водяная пелена искажала все вокруг, превращая мир в коричнево-серую бурду.
Странно, как резко меняется погода в этой огромной естественной чаше в самом центре страны, где никогда ничего не происходит. Будто кто-то напоминает, что мир непредсказуем и неукротим.
Сменяются времена года. Привычные схемы дают сбои. Люди меняются.
За все утро ей удалось не сказать матери ни единого слова.
Дверь открыл Коннор. Деа сразу поняла, что он ее простил, и радостно встрепенулась. Интересно, где-нибудь в уголке его подсознания еще мигает разноцветными огоньками «Извини»?