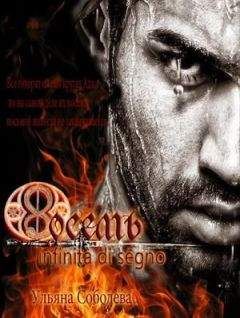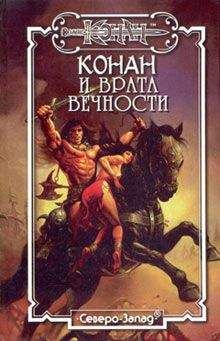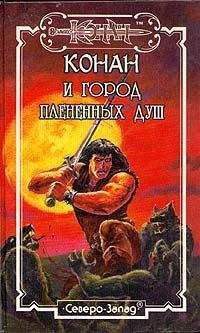Пин Эбель был доволен. Позапрошлым утром он наконец нанял именно такого охранника, какого искал давно, с самого того дня, как прибыл в Шадизар по своим неотложным купеческим делам. Правда, парень был слишком молод, но это — считал Эбель — даже к лучшему. Он так легко согласился на четырнадцать медяков в день, что сразу стало понятно: дурень ничего не соображает в ценах, а значит, и вообще в жизни. Лет этак через семь или восемь он, возможно, и сумеет понять, чем отличаются четырнадцать медяков от одного полновесного золотого, а пока пусть служит достопочтенному пину почти задаром и набирается опыта рядом с таким мудрым хозяином.
Пожалуй, он даже должен бы был приплатить Эбелю за несомненную удачу наслаждаться общением с ним в течение целой луны, ну да ладно: не настолько жаден шемитский купец, как про него толкуют…
Придя к такому утешительному выводу, пин в душе своей плюнул и растер остатки совести и с добродушной, совсем чуть-чуть высокомерной улыбкой обратился к новому охраннику:
— А что, Конан, побьешь ли ты того верзилу, что сторожит бренные останки Нассета?
— Бренные останки?
— Только так могу сказать об этой развалине. Да будут тому свидетели прекрасный Адонис и луноликая Иштар, он и десять лет назад выглядел точь-в-точь как хвост от дохлого ишака, обгрызенный голодной собакой. Ну, побьешь или нет?
— Кром! Еще бы!
Пин благосклонно кивнул и отвернулся. Воистину ему повезло. Этот киммерийский волчонок ростом в два Эбеля и половину Нассета стоит десятка чванливых шадизарских стражников, разжиревших на доходной службе отечеству. Те только и знают, что жрать да спать, а до хозяйского добра им и дела нет.
— Не вздремнуть ли мне, Конан? Усталость сковала члены.
Если Конан и удивился, то виду не подал. Пин Эбель продрых с прошлого вечера до нынешнего полудня, потом встал, подкрепился двумя мисками овощей и огромным телячьим окороком, и вот теперь неведомо откуда взявшаяся усталость сковала, оказывается, его жирные члены, и он снова собрался спать.
— Почему бы нет?
— Ты добрый малый, — довольно улыбнулся пин. — Жалеешь хозяина. Понимаешь, что хозяин крутится как белка в колесе, дабы какая-либо наглая гнида не обвела его вокруг пальца. И то — иной так и норовит урвать лишнюю монету, лишний кусок… Ох, как я утомился…
Маленькие глазенки пина и в самом деле наполнились вдруг мутью, алые полные губки приоткрылись, щеки на миг оторвались от плеч — Эбель сладко зевнул, протянул пухлую ручку к колену нового охранника и, опершись на него, поднялся. Телеса его всколыхнулись, обдав Конана волной приторно-кислого запаха, затем мягко упали в руки расторопных слуг…
Когда паланкин с тушей Эбеля уплыл наконец в дом, киммериец с облегчением вздохнул и вновь присосался к бутыли отличного красного вина, привезенного пином из самого Шема. Там, в вечнозеленых долинах, у этой жирной крысы имелись собственные виноградники, на которых от зари и до зари трудились наемники и рабы, — конечно, пин не преминул похвастаться погребами, доверху забитыми бутылями и бочками чудесного чистого напитка, впитавшего в себя золото и жар солнца. Он забыл лишь добавить, что пота и крови в этом вине было ничуть не меньше, чем золота и жара…
Конан отбросил в сторону пустую бутыль и принялся поглощать яства, коими слуги уставили всю поверхность стола. Рыба, тушенная в молоке с луком, таяла во рту, отварная ветчина соблазнительно розовела в воротнике из зеленого горошка, а жареный гусь издавал пленительный аромат, призывая киммерийца немедленно полакомиться его румяной ножкой. До отказа набитый желудок жалобно заурчал, однако принял очередной кусок, за ним еще один, и еще… Конан откупорил новую бутыль и залил в себя половину ее содержимого, икнул, осоловевшими глазами обвел двор, потом медленно поднялся. Слуги Эбеля, сидевшие прямо на земле в тени кипариса, на мгновение оторвались от пива и сыра и посмотрели на него с откровенной неприязнью — этот юнец ведет себя здесь как наследный принц. Трапезничает за одним столом с благородным пином, говорит с ним на равных, сидит в его присутствии и даже спит в соседней опочивальне! Никакого уважения…
Не обратив внимания на злобные взгляды слуг, киммериец взял наполовину опорожненную бутыль, нетвердой походкой прошел к двери, ведущей из внутреннего дворика в дом, толкнул ее бедром и ступил внутрь. Тут было темно и прохладно. Сверху доносились тихие унылые звуки лютни, под которые любил засыпать Эбель и которые на Конана неизменно нагоняли тоску, а еще нежный голосок Эбелевой наложницы Илианы и сиплый писк его недоразвитого сына — толстозадого красномордого Гана Табека. На самом деле Ган Табек, коему минуло уже сорок семь лет, соображал очень даже хорошо, но изо всех сил притворялся младенцем, то есть ходил под себя, пускал слюни, ползал на четвереньках и агукал. От настоящего дитяти он отличался тем лишь, что вместо молока требовал вина, причем не менее дюжины бутылей в день. Конан никак не мог взять в толк, зачем ему разыгрывать это представление, — начиная с момента рождения судьба была к нему благосклонна. Единственный наследник великого богатства достопочтенного Эбеля, обожаемый отцом до умопомрачения, он мог жить в свое удовольствие и ни о чем не заботиться. Он, однако, предпочел прикидываться полоумным… Странно. Поистине странно. Однажды Конан уже задумывался о причинах подобного поведения Гана Табека — да вот не далее как вчера, — ибо заметил вдруг, как в черных глазах его, обычно сохранявших выражение тупого безразличия, мелькнул озорной огонек, но скоро выбросил из головы этого притвору: в конце концов, не за тем он нанялся в охранники к шемитскому купцу, чтоб разбираться в его семейной драме…
Поднявшись по широкой мраморной лестнице, в дневное время ничем не освещаемой, а потому темной, киммериец миновал роскошные покои Илианы и, с трудом поборов желание войти к ней и завести более близкое знакомство, прошел к себе.
Здесь также было темно. На окнах висели тяжелые бархатные занавеси веселого желтого цвета — скорее, такие больше подошли бы для украшения комнаты Гана Табека; в щель меж ними пробивался яркий золотой лучик, рассекая пополам рыжий туранский ковер, весь усыпанный затейливыми цветами и узорами, потом перебегая на низкую тахту, покрытую легкой оранжевой накидкой, и, наконец, ломаясь на блестящей стеклянной крышке круглого столика.
Конан поставил бутыль в самое солнечное пятно, отчего внутри ее сразу заплясали разноцветные искры, и повалился на тахту. «Да, — мелькнула ленивая мысль, — на такой службе и разжиреть недолго…» Он объелся, как оголодавший кабан, до колик в желудке и теперь хотел только одного: спать. Громко, протяжно рыгнув, он вздохнул, прикрыл глаза. Тотчас воображение его изобразило кусок баранины на вертеле, и от этой ужасной картины киммерийцу стало совсем дурно. Он повернулся набок и попробовал представить рядом с собой прекрасную Илиану, но вместо нее узрел жареного поросенка, со всех сторон обложенного яблоками… О, это было невыносимо. Если он прослужит у пина Эбеля еще пять-шесть дней, он будет просто не в состоянии думать о чем-либо, кроме жратвы.