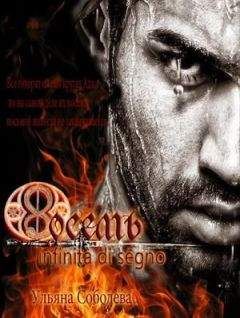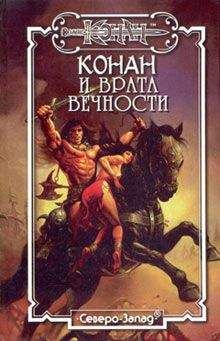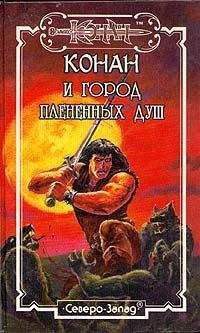Солнце пылало где-то вдалеке, за крышами домов; верхушки дерев были озарены его красным светом, в окнах переливались алые яркие блики, но скорая ночь уже распластала повсюду свою тень. Потемневшее небо нависло над городом, отражаясь в глазах и лужах, пятнами чернеющих тут и там.
Перед закатом, как обычно в Шадизаре, улицы опустели. Только тот, кто не боялся грабителей, да еще сами грабители отваживались бродить по городу в это время. Эбель в присутствии четырех носильщиков, двух слуг с палашами наперевес и Конана выглядел олицетворением мужества. Его глазки сверкали из-за голубого полога так вызывающе, так нагло, что редкие прохожие останавливались и изумленно взирали на храброго заезжего купца, затем переводили взгляд на могучего киммерийца и моментально вспоминали о своих неотложных делах, затем скрывались за очередным поворотом, втайне жалея о невозможности проучить нахального шемита.
А он, к глухому раздражению собственных слуг, еще и начал выкрикивать оскорбления, корчить рожи, визгливо хохотать, тряся жирами. Кончилось это тем, чем и должно было кончиться: из-за угла вылетел камень и врезался прямо в пятачок пина. Кровь брызнула во все стороны. С пару мгновений шемит молчал, ошеломленный коварным нападением, а потом разразился такими истошными воплями, что уши заложило у всех, кто имел несчастье его сопровождать. Последних прохожих как ветром сдуло. Улица перед паланкином опустела, только в окнах торчали любопытные физиономии — Конан готов был поклясться, что каждая выражала истинное наслаждение происшедшим и удовлетворение. Да и сам он испытывал похожие чувства. Слава великому солнечному богу Митре, хоть раз в этом мире восторжествовала справедливость…
Некоторое время спустя Эбель внезапно успокоился. Приступ безумия миновал, но пятачок уже был разбит. Уставясь в пространство, благородный пин покорно принимал заботы слуг, хлопотавших вокруг него с окровавленными батистовыми платами, и вовсе не замечал усмешек носильщиков. А те ликовали. Необходимость всякий день таскать по улицам такого кабана вселила в сердца их страстное желание отправить его на бойню, так что теперь все четверо благословляли руку, метко запустившую булыжник в светлую личность шемитского купца.
Конан восседал на своем гнедом как изваяние. Только синие глаза его зорко следили за всем происходящим, а черты лица, равно как и все члены, и даже сама мысль — оставались неподвижны. Когда же наконец слуги обмотали физиономию Эбеля кушаком от его же халата, процессия снова двинулась в путь — на сей раз в полном молчании. Побитый пин отрешенно смотрел вдаль; там быстро чернело, ибо ночь была уже совсем рядом; туман опускался с крыш на землю, и серые тучи цепочкой бежали по небу, гонимые северным ветром. Да, в Шадизаре вдруг стало холодно. Конан, облаченный только в легкие шаровары и кожаную безрукавку, с неудовольствием ощутил прикосновение тумана, ледяного, будто пальцы мертвеца. Так и носильщики, вообще почти нагие, в одних набедренных повязках, посинели от холода и прибавили шаг, торопясь вывалить своего седока во дворе его дома — гнедому пришлось перейти на рысцу, чтобы догнать их.
А в доме вовсю шли приготовления к встрече хозяина с богатой добычей. Стол ломился от яств, тройка лютнистов мучила струны, дюжина юных наложниц вертелась на середине зала, репетируя танец любви; Илиана визгливо бранилась с виночерпиями, а Ган Табек враскорячку сидел на полу и бессмысленно хихикал.
Презрев все правила, киммериец первый вошел в дом и сразу уселся за стол. Одной рукой ухватив за ножку серебряную чашу, наполненную прозрачным красным вином, вторую он протянул к блюду с дымящейся бараниной и вытянул самый большой, кусок. Такого нахальства здесь еще никогда не видели. Ведь достопочтенный пин только сейчас ступил в зал, а его охранник уже пожирал его еду!
А достопочтенный пин с порога слабо улыбнулся Гану Табеку (притом как бы не приметив остальных), проковылял к столу и медленно опустился на скамью против Конана. Всем видом своим он демонстрировал ужасную усталость и философскую отрешенность от всего земного, низменного. Он словно бы витал в облаках и с величием истинного мудреца не обращал внимания на разные мелочи — вроде наглого нищего мальчишки, который поглощал его мясо со скоростью голодного дракона. Но, каково бы ни было настроение пина в данный момент, тем не менее натура брала свое: выпив до дна чашу вина, он покосился на киммерийца и сдвинул брови. Никакой реакции со стороны Конана на это не последовало. Проще говоря, он вообще ничего не заметил, поскольку не смотрел на хозяина, а интенсивно насыщался. Тогда благородный пин выпучил глаза и издал некий звук, сходный с писком простуженной полевой мыши. Конан мельком взглянул на него, однако явно не понял, что сие означает. Пришлось Эбелю смириться — иначе он мог остаться без жаркого. Трапеза прошла в молчании. Девиц изгнала из зала Илиана, справедливо считая, что сейчас пин не расположен наслаждаться их танцем; лютнисты пригорюнились в самом темном углу — все шло к тому, что их нынче же прогонят прочь, не заплатив и пары медных монет; слуги выстроились в ряд и таращились на Эбеля, изо всех сил пытаясь придать своим взорам выражение бескрайней любви и почтения.
Наевшись, Конан встал, на прощание махнул пину рукой (тем самым опять вызвав всеобщее негодование) и поднялся наверх. Он надеялся, что в эту ночь ему не будут сниться гуси и поросята, но стоило только лечь и закрыть глаза, как тут же прежние видения возникли вновь… Кром! Ему был нужен совсем другой сон! Ши Шелам, жалкий маленький крысенок, рассказывал, будто постоянно видит во сне сражения и драки, а он, Конан, варвар из Киммерии, воин, бродяга и забияка, всего лишь жареных поросят!.. О, проклятие!..
Он в раздражении скрипнул зубами и повернулся на бок. За окном давно стало черным-черно, и ветер свистал по улицам как сумасшедший… Веки варвара смежились; коловорот мыслей прервался на одной, ничуть не значительной; мышцы легко, как у зверя, расслабились, и вздох замер в груди. Через несколько мгновений Конан спал.
* * *
Разбудил его дикий вой, переходящий в рычание, потом в скулеж, потом снова в рычание. Доносился он из покоев купца и был так ужасен, что у более чувствительного человека мог вызвать временное помешательство, но только не у варвара. Недовольно поморщившись, он встал, натянул шаровары и не спеша вышел из комнаты.
Дверь в обиталище благородного пина оказалась открытой. Конечно, орал он (в чем Конан и не сомневался, ибо кто еще мог орать в его покоях), причем весьма удобно устроившись — развалившись на подушках животом кверху, раскинув руки и ноги. Даже в горе — и сие киммериец отметил про себя с величайшим презрением — Эбель не забывал об уюте и неге.