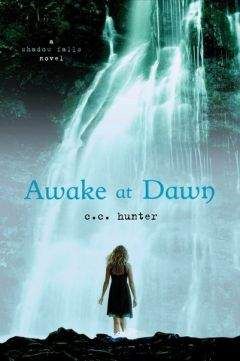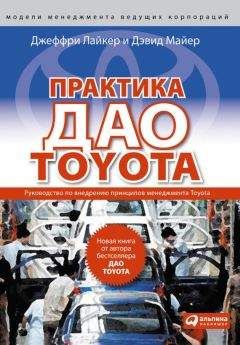Отец снял царскую шапку, на которой барс выпускает изо рта оленя, и надел мне на голову.
– Вот новый царь, – сказал он, положив руку мне на плечо. – С ним кочевать вам к Золотой реке.
Я ощутила тяжесть этой старой огромной шапки, и жаром загорелось мое лицо. А отец поднялся и пересел к главам. Поколебавшись, я села на его место, и тогда все стали подходить ко мне и припадать на колено, приветствуя нового царя.
– С тобой кочевать к Золотой реке, – тек шепот их клятвы, словно ручей, у моих ног. – С тобой – к Золотой реке. С тобой кочевать…
Талай отвел глаза, когда я посмотрела на него сквозь пелену, окутавшую меня. Отец подошел последним.
Служанки принесли молока и конской крови, и все мы по очереди отпили из сосуда. А когда ушли главы, отец попрощался со мной, развязал пояс, вслух произнес свое имя и перестал носить в себе свет жизни. Мое сердце рыдало, когда он уходил.
Те, кто распустил пояс, уходят неслышно. По ним не устроят поминки, не заплачут дети. Они растворяются в мире, оставив по себе только память.
А вечером, когда не стало отца и я сидела в доме одна, подавленная тяжестью царской шапки и пустой тишиной, вошел Талай. Я поднялась, хотела подбежать к нему, но он вошел так нерешительно, так странно на меня глянул, что я замерла на месте.
– Легок ли ветер, царь?
– Легок ли ветер, конник Талай?
Он приблизился, поклонился огню и сел, глядя на меня по-прежнему странно.
– Я не знаю, как говорить с тобой, – сказал он. – Я шел не к царю, а к его дочери, но я опоздал.
– Для тебя я всегда останусь другом, а не царем, Талай. Я Ал-Аштара для тебя, девочка, которую ты обучал скачкам.
Он закрыл глаза и счастливо улыбнулся:
– Как хорошо, что ты это сказала! Ту девочку я мечтал взять женой в свой дом, и так больно мне было видеть на ней сияние пояса Луноликой.
Он посмотрел мне в глаза – я не знала, что ответить.
– Мой отец умер, и я стал главой нашего рода. Мне надо брать жену, но я пришел, чтобы взглянуть на тебя. То, что живет во мне, сильнее меня.
– Это живет во мне тоже, Талай, ты знаешь. Но сильнее меня пояс и вот эта шапка, – сказала я как можно спокойнее, но что-то во мне задрожало. – Талай, скажи, что же мне делать? Это доля, это не я, не я! Но где я?
Я знала, что не стоило говорить так – из дружбы к нему, из любви. Но никогда я не чуяла большей тяги к нему, больше слабости, жалости, нежности. Мне хотелось обнять его как любимого, брата, как того родного, кто остался у меня после войны. Я понимала, что готова отдать все, лишь бы снять сейчас с головы царскую шапку, снять свой пояс, спуститься к нему и утолить свое горе. Но ничего у меня не было, кроме этой шапки, нечего было отдать Бело-Синему вместо себя.
Мы сидели застывшие, оцепеневшие, и не двигались. Немой вопрос, который он боялся произнести, висел между нами. Ответ, которого я желала больше всего в жизни, замерз у меня на языке.
– Найди себе добрую жену, – молвила я наконец чужим голосом. – Нам нужны хорошие воины.
Он закрыл глаза, как если бы я ударила его по лицу, сидел и качался, словно превозмогал боль. А после взял мою руку и поцеловал в ладонь, в ту самую рану, кровью из которой я вызывала алчных духов. Так делает лишь жених на свадьбе, но я не посмела его остановить, вся кровь отхлынула от лица, и холод, и счастье, и пустоту чуяла я в груди.
– Кадын, прощай, – сказал он после и вышел.
Как девица, как несчастный ребенок, я рыдала в ту ночь, захлебываясь, – по всему, по всему, по всему. А наутро поднялась другим человеком, владыкой, царем. И с того дня сердце мое сухо. Все истекло из меня, все горе, какое могло, тогда и случилось.
Наутро я объявила праздник по случаю победы и смены царя. Людям надо было забыть невзгоды, забыть запах поминальных костров. К полнолунию я узнала о свадьбе Талая и послала ему отрез золотого шелка и лучшего, саврасого, самого дорогого жеребца.
Облака плыли неторопливо, причудливые и большие. Они то застилали солнце, то вновь открывали его, и становилось то холодно, то томительно жарко. Алатай лежал на большом сером камне, успокоенный и тихий, чего не случалось с ним давно. Он отдыхал. Он позволил телу расслабиться, а голове не думать. Он знал, что заслужил эту минуту, ибо все уроки Кама были выполнены, а то, что ждало его впереди, потребует всех сил и смелости, и перед этим стоило отдохнуть. Но оно уже не уйдет от него, оно уже с ним, как с человеком всегда его доля, и можно просто так вот лежать, нежиться под солнцем и следить за облаками.
Алатаю давно не было так хорошо. Вот уже две луны с того дня, как ушли мальчики на посвящение вслед за Камом, он жил, словно охваченный лихорадкой. Сперва было учение, и Алатай старался, рвал жилы и больше всего боялся, что не сумеет, не справится, окажется хуже других. А потом, когда начались уроки, его охватил еще больший страх – что не выполнит, не найдет то, что требует Кам, не привлечет ээ и не получит доли.
Теперь ему казалось это смешным – чего он боялся? Он лежал на камне и блаженно улыбался облакам. Последний урок был самым трудным, надо было выследить самку горного козла, годовалую, еще не ягнившуюся самочку, поймать ее живьем и срезать с холки клок шерсти. Когда Кам велел такое, Алатай решил, что пропал, он не верил, что выполнить это возможно, но вот он спускался с гольцов, и клок шерсти лежал в мешочке у него на поясе. И удивительное спокойствие вдруг снизошло на него. Словно бы кто-то шепнул, что это все, больше уроков не будет, он выдержал, выполнил, дух уже ждет его, и торопиться больше не надо – Кам сам его ныне найдет.
Всякий раз так и случалось после выполненных уроков, Кам всегда находил его, появлялся, стоило только все закончить. Других мальчиков Алатай не видал за это время. Все они растворились в тайге, разошлись по своим заданиям, каждый сам готовил себя к встрече с духом. Всю луну Алатай был один, рыскал по тайге как волк, спал в камнях и валежнике и мечтал, чтобы волком явился к нему его ээ.
– Греешься? – услышал он резкий и хриплый голос Кама. Тот стоял внизу под камнем, на котором лежал Алатай. – Те, грейся, пока светло. Видишь ту лиственницу? Согреешься – приходи к ней.
Алатай обернулся – Кама уже не было. Он улыбнулся – можно не спешить. Можно еще полежать и понежиться. Самое тяжелое позади. Самое страшное – впереди. А сейчас были облака, из-за которых смотрел на него единственным глазом Бело-Синий.
Он пришел к Каму, когда сумерки заполнили тайгу. У ручья под раздвоенной лиственницей стоял шалаш, и Кам сидел возле, готовил над огнем мясо. Алатай даже забыл все, что с ним было, учуяв запах.