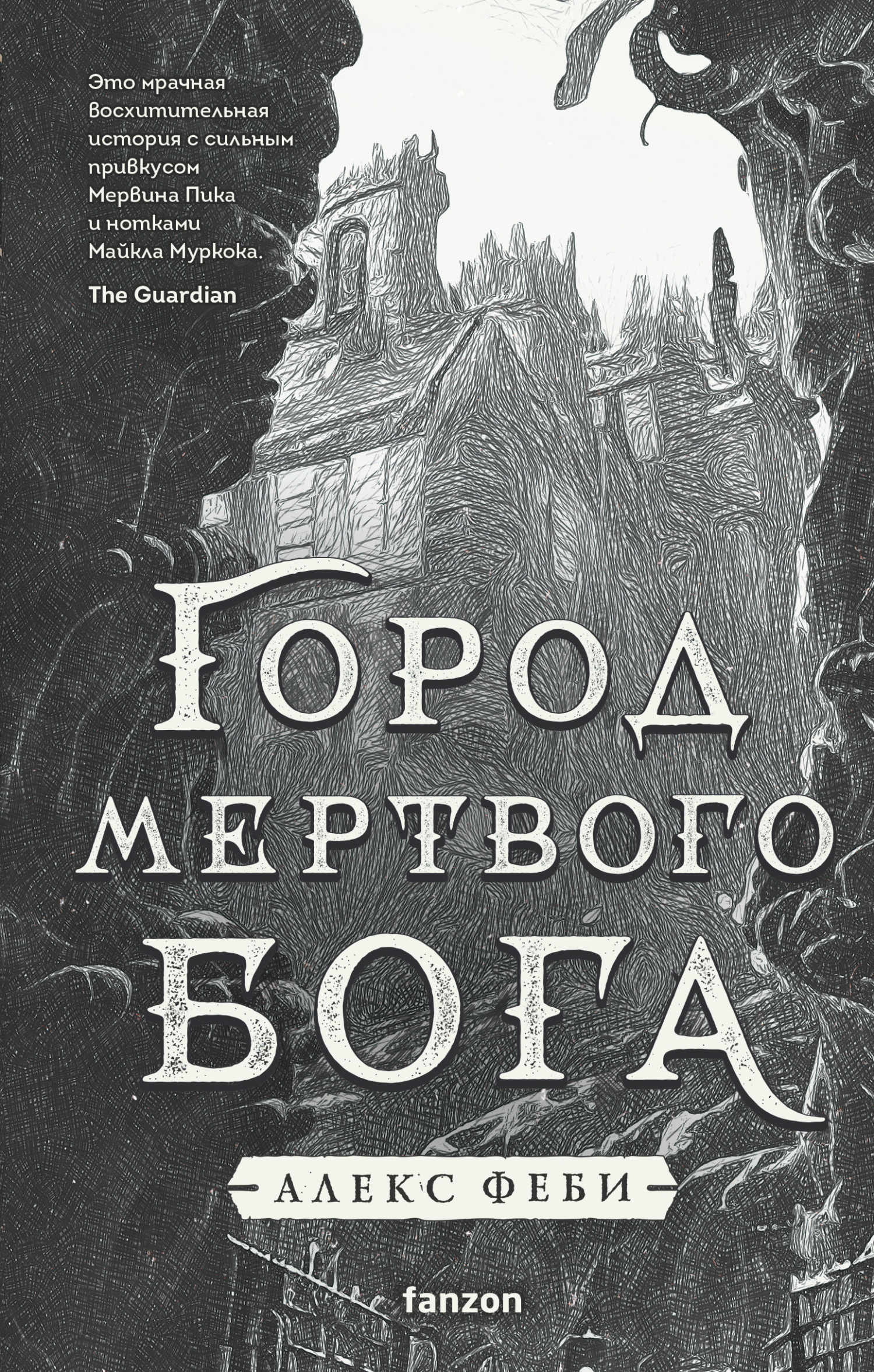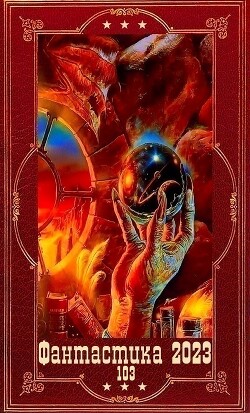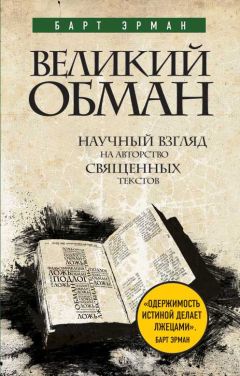могла выразить то, что желала выразить; не рисунок и не слова – просто линия, неуверенно змеившаяся от одного края страницы к другому. Но затем, с величайшей точностью, книга нарисовала Дашини и ее мать, Госпожу Маларкои. Они были совсем как живые, так что Натан непроизвольно подпрыгнул, словно они вдруг появились в комнате.
Потом на странице возник Адам, стоящий спиной, – того же роста, каким был сейчас Натан, в такой же одежде, с такой же прической. Дашини и Госпожа обвивались вокруг него, как змеи, льнули к нему, проводили руками по его телу, касались его своей кожей. Адам отбивался, пытался вырваться от них, но безрезультатно. Они раздели его догола; потом сняли с него кожу, положили ее на стол и растянули по углам, как большой плоский лист. Орудуя ножами и острыми камнями, при помощи магии, они вырвали его мышцы, одну за другой, и отдали своим огненным птицам – накормленные, те запылали ярче и своим жаром выдубили Адамову кожу, сделав ее прочной. Они вытащили жилы из его горла, те, что, вибрируя, создавали звук его голоса, обрезали их крошечными ножницами и натянули на музыкальный инструмент, чтобы можно было заставлять его говорить, перебирая их пальцами или водя по ним смычком.
Все это они сделали, пока он был еще жив, – с помощью заклинаний ему не давали умереть. Они растворили его кости в кислоте и щелочи, так что его череп сделался мягким, как у младенца. После этого они аккуратно раскрыли его по линиям швов, обнажив мозг, серый, но блестящий, спряли этот мозг в тонкую нить и намотали на катушку. Это причиняло Адаму ужасную боль, которая стала еще сильнее, когда они принялись ткать эту нить на ткацком станке, а потом огромными острыми ножами разрезали ткань на страницы и переплели их в его собственную выдубленную кожу, используя клей, вываренный из его связок. Обложку они украсили сапфировым порошком и эмалью, сделанной из осколков его зубов.
Фоном для этих рисунков служили изображения жертвоприношений множества детей и коз, и чем больше глоток было перерезано, тем более грубыми и схематическими они становились, пока под конец книга, очевидно, полностью не растеряла свое искусство рисовать и страница не заполнилась сплошным красным цветом крови.
Натан перевернул страницу, и та же последовательность повторилась вновь – изображения Дашини и ее матери, четкие и ясные, и дальше – вплоть до страницы, залитой кровью детей.
– Натан! – произнесла Дашини, стоя в дверях. – Наконец-то ты пришел в себя! Мы не можем терять времени, нам нужно уходить.
С ней был Сириус. Натан протянул к нему руку; пес подошел к нему и положил голову на его ладонь, слегка повизгивая.
– Что с тобой? – спросил его Натан.
Сириус положил лапу на простыни и принялся скрести, побуждая Натана скорее выйти на улицу.
В окнах горели занавески, ткань выпирала наружу от жара собственного пламени – красные полотнища, красный огонь; лакированные деревянные рамы трескались и покрывались пузырями. На дорогу вываливались стекла, разбиваясь вдребезги и вздымая в небо черно-серые облака.
«Афанасийский Храм» вопил на разные голоса; трещали выбитые перепадом давления двери, из комнат вырывались потоки горячего воздуха; позади, в глубине здания, люди задыхались, пытались бежать, пытались позвать на помощь, сталкивались в дверных проемах (одни пытались выскочить наружу, другие прорывались внутрь), орали и хрипели. Над всем висело толстое покрывало едкого дыма.
Вдали подступало море, словно гонимое внезапным приливом; его сдерживал лишь размер полости с телом Бога, которую оно медленно, но неотвратимо наполняло.
Мадам успокаивала своих девиц – большинство из них согнали на пустырь на краю Торгового конца, куда не доставал жар. Они стояли, дрожа и ежась на ветру, полуголые; их матери и друзья закрывали их от взглядов толпы, у которой в любом случае были другие заботы, другие жертвы.
Из остова полыхающего здания выбегали мужчины – в рубашках и без штанов, в штанах и без рубашек, без штанов и без рубашек; на некоторых были надеты только цилиндры, и больше ничего. Вне зависимости от одежды бежали все одинаково: неуклюже, на полусогнутых ногах, стуча каблуками по твердой земле, поскальзываясь на Живой Грязи. Объятые ужасом, они кидались сперва в толпу, оттуда обратно в здание, а потом – в ночную темноту, где их поджидали Натановы палтусы, светясь голубым.
В темноту, где голая кожа вспыхивала в свете факелов в руках разъяренных отцов, разъяренных братьев, разъяренных дядьев; где огни танцевали под рыдания перепуганных отцов, перепуганных братьев, перепуганных дядьев.
Сириус повернулся к Натану: перед ними была Присси! Ее волосы отросли и уже доходили до плеч, а глаза были такими пустыми и безжизненными, что Натан едва ее узнал. Она как будто стала меньше, чем он помнил. Присси стояла босиком, кутаясь в старую военную шинель, обернув ее вокруг себя так плотно, что пуговицы оказались где-то под мышками. Было время, когда при виде нее у него сжалось бы сердце. Теперь он смотрел, как она вытирает губы рукавом, и не чувствовал внутри себя ничего.
Все было израсходовано.
Возле костра всегда есть место, которое ярко освещено, а позади него темнота словно сгущается еще больше, ввиду того, что зрачок сужается от яркого света. Присси нырнула в такое вот черное пятно. Натан протянул руку, чтобы ее остановить, но у него болели кости, плоть просвечивала; а когда он отвел взгляд от тыльной стороны собственной руки, девушки уже не было. Там, где она стояла, бегали взад и вперед незнакомые люди. Да и все равно, что бы он ей сказал?
В темноте было ничего не разглядеть, но когда Натан потянулся за Искрой, чтобы осветить мир, боль оказалась так велика, что он был вынужден остановиться; как будто он задел обнаженный нерв, и ответная реакция заставила его отступить.
Вокруг были люди; одни стояли на коленях, моля о пощаде, другие их избивали. Натан отвернулся и от них тоже – и вновь увидел Присси. Она стояла перед «Храмом», держа в руках импровизированное копье, оторванное от облицовки (то ли косяк, то ли кусок оконной рамы, освобожденный от прежних обязанностей), и тыкала им в человека, которого держали за локти две другие девушки, обе почти голые. Старый, седой и сгорбленный, со свисающим брюшком, тощими, как спички, руками и плоскостопыми ногами, человек ломал сцепленные руки, умоляя Присси остановиться, но в ней не было и проблеска жалости.
К ним подошли другие девушки, до этого державшиеся на безопасном расстоянии, под предводительством сестры Присси. Сперва они приближались с робостью,