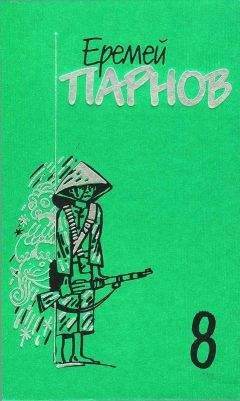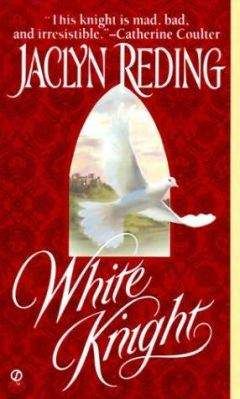Он лежал на раскалившемся от солнца металле, но не замечал жара. Он вообще ничего не замечал.
Невидяще смотрел астролог в лингийское небо, но видел не бездонную лазурь и легкие облака, а то, что скрывалось далеко-далеко за ними.
Пустоту видел Галилей, лежа на крыше эллинга. Великое Ничто, через которое водил цеппели. Бесконечное серое, привлекательное и пугающее. Оглушающее пространство, где таились ужасающие Знаки, прикосновение к которому дарило астрологам боль и наслаждение.
— Мы скоро увидимся, — прошептал Квадрига, закрывая глаза. — Очень скоро.
* * *
Господь создал людей свободными.
Посланцы Его — Добрые Праведники — не уставали повторять эту максиму и добились того, что ее запомнили все. Свободными. Свободными не благодаря кому-то, а по определению, потому, что так хочет Бог. Точка. А затем Добрые Праведники передали дарованную Богом власть Первым Царям, которых еще через сто лет сменили адигены. А максима любой власти — ограничение свободы.
Получается, Добрые Праведники нарушили один из главных постулатов Бога?
Первым эту крамольную мысль высказал тинигерийский священник Иеробот и даже успел организовать движение за возвращение к истокам, получившее большую популярность у простолюдинов — ведь Иеробот призывал к уменьшению влияния адигенов и Церкви на повседневную жизнь. Что именно приключилось с Иероботом и его последователями, которых стали называть нердами, на Тинигерии предпочитали не уточнять, но редкие вспышки аналогичных заблуждений на ней и других планетах Ожерелья с тех пор гасились весьма оперативно — адигены не допускали их превращения в подобие пожара или хотя бы костра. И весьма преуспели, поскольку следующий удар по основам Олгеменической церкви был нанесен спустя несколько столетий. Зато удар этот оказался весьма серьезным.
Набирающие силу анархисты быстро поняли, что на победу может рассчитывать лишь та идея, которая наступает широким фронтом, вторгается во все сферы жизни простого человека, и в том числе — в его душу. В его религию. И древнее учение Иеробота обрело вторую жизнь, куда более известную, чем первая.
Надо отдать анархистам должное: прекрасно понимая, что попытка потрясти Церковь вызовет жестокие ответные меры, подготовились они предельно тщательно и выступили во всех крупных мирах одновременно, организовав вошедшее в историю «Смущенное воскресенье». Пропагандисты врывались в храмы и вступали в ожесточенные споры со священниками, устраивали митинги на улицах и площадях, распространяли прокламации, обвиняя Церковь во лжи и предательстве. Месть разгневанных адигенов была беспощадной: всех арестованных анархистов приговорили к длительным каторжным работам, и все они — до последнего человека — умерли на этих работах, став мучениками нового-старого движения нердов. Однако посеянные ими зерна сомнений дали всходы. Не могли не дать, поскольку кровь всегда считалась лучшим удобрением.
— Как в старые добрые времена, да? — Шо Сапожник отрезал от плитки жевательного табака изрядную порцию и сунул ее в рот, отчего следующая фраза прозвучала невнятно: — Прямо мурашки по коже от предвкушения.
— Почему «старые времена»? — не понял Лайерак. — Мы работали всего пять месяцев назад.
— Последние акты были однообразны, — хмыкнул Шо. — Рутина. А нынешний контракт хорош, ипать мой тухлый финиш, есть возможность импровизировать. — Сапожник выдержал короткую паузу. — Как раньше, чтоб его.
— Пожалуй, — согласился Отто. — Здесь мы сможем развернуться.
— Как раньше, да?
— Да, Шо, как раньше.
Лайерак улыбнулся, потрепал помощника по плечу, но про себя отметил, что раньше, «в старые добрые времена», Сапожник не был таким болтливым. И не прикладывался столь часто к бутылке — запах бедовки Отто уловил даже сквозь вонь жевательного табака.
— И штучки нам выдали классные, чтоб их, — продолжил Шо. — Тебе небось как бальзам по сердцу, да?
— Да, — коротко подтвердил Лайерак. — Как бальзам.
«Штучки» — обещанное заказчиком снаряжение и оружие — действительно оказались классными. Великолепными. Идеально подходящими такому мастеру, как Отто. Оружие разработал настоящий гений, и Лайерак влюбился в удивительные «штучки» с первого взгляда, а после тренировок, окончательно осознав их возможности, стал в буквальном смысле дергаться, нетерпеливо дожидаясь возможности опробовать оружие в настоящем деле. А еще ему казалось, что знаменитый Гатов ухитрился прочесть его, знаменитого Огнедела, мысли и воссоздал в металле самые фантастические мечты Лайерака.
— Они такие компактные, — продолжил тем временем Шо.
— Ага.
— Удобные.
— Ага.
— Но шарахнут как следует.
— Я знаю.
— Повеселимся!
— Ага.
Сапожник храбрился, очевидно храбрился, в действительности нервничая перед акцией. Глаза горят, голос бодрый, но обмануть Огнедела Шо не мог. Лайерак видел подрагивающие пальцы, чувствовал запах бедовки и пота. Да, они сидели в закрытом фургоне, одетые в плотные кожаные плащи, с пристегнутым поверх снаряжением. Да, на Кардонии лето, и ночь не принесла особенной прохлады. Да, жарко. Но никогда раньше, даже на пустынной Миделе, Сапожник не потел перед акциями. Никогда. И не болтал как заведенный.
«Похоже, Шо, нам придется расстаться…»
Жалости Огнедел не испытывал — так, легкая грусть. Сапожник был не первым помощником, которому предстояло уйти в никуда. Правда, Шо продержался долго — шесть лет, и Отто успел к нему привыкнуть, но привычки Лайерак менял так же часто, как имена — это был вопрос выживания.
— Люблю нашу работу.
— Я вижу.
Всего Огнедел привез на Кардонию четырнадцать парней. Отбирал самых опытных, привыкших работать в больших городах, и самых умных, поскольку контракт подразумевал целый ряд акций, в перерывах между которыми следовало водить за нос полицию. Жили ребята по двое-трое, чтобы не привлекать внимания, а перед акциями собирались в пятерки. Сегодня работала первая группа, следующую проведет вторая, затем третья — чтобы не примелькаться. Сам Отто планировал принять участие во всех операциях, но он — наособицу, он слишком умен и опытен, чтобы позволить полицейским испортить потеху.
— Я давно понял, что ты — артист, — неожиданно произнес Шо. — Великий артист… Или режиссер. Да, скорее — режиссер. Но артист тоже, чтоб меня.
— О чем ты говоришь? — поморщился Лайерак, но подумал, что сравнение, пожалуй, лестно.
— Все твои акции — как великие театральные постановки. Ты выверяешь каждую деталь, выстраиваешь мизансцену, готовишь публику, потом выходишь и устраиваешь кульминацию. И мне лестно, что рядом с тобой на сцену выхожу я. — Сапожник отодвинул деревянную ставню, изнутри закрывавшую зарешеченное окно фургона, и выглянул наружу, разглядывая тускло освещенный порт. — Вступление: мы ждем сигнала. Ждем, когда ребята отвлекут охрану.