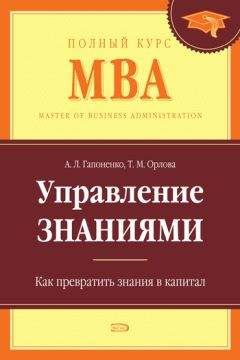Тишина.
Владыки в молчании вышли из зала. По пути к процессии присоединялись все новые и новые Бледнолицые. Вскоре они превратились в почти бесшумную, шаркающую массу, освещенную по краям факелами, — темную и не познаваемую в сердцевине.
Больше часа они брели через, за неимением лучшего слова, фермерские поля. Переходы и комнаты были заполнены поддонами с человеческим навозом, на котором росли бледно-голубые грибы: за ними и ухаживали птицеклювые Бледнолицые. От запаха у Пепсиколовой закружилась голова, но она затянулась сигаретой, и ей стало немного легче. Иногда подземные владыки останавливались, чтобы передать что-то очередному грибоводу. Может, флакон, а может, что-то еще. Свет факелов был слишком тусклым, чтобы Аня могла разглядеть.
Наконец, фермерские поля остались позади. Безмолвный поток стекал по лестницам и туннелям, словно подземная река, стремящаяся к центру земли. Потом на чудовищно глубоком, неизвестном даже Пепсиколовой уровне процессия остановилась. Аня различила металлическую стену, в которой зияла грубо вырезанная дыра. Острые стружки устилали пол.
Владыки по очереди нырнули в отверстие. Пепсиколова — следом. Бледнолицые остались снаружи.
Внутри царил мрак.
Пепсиколова ждала, когда глаза привыкнут к темноте, но та рассеивалась. Теперь Аня чувствовала подземных владык по обе стороны от себя, но уже ничего не видела.
— Если хотите мне что-то показать, — произнесла она, — то придется вызвать сюда одного из ваших приспешников с факелом.
— Сначала мы должны продлить твою душевную муку, Анна Александровна.
— Она наверняка непереносима.
— Но может стать еще хуже.
— Гораздо хуже.
— Поверь.
Тишина натянулась, будто готовая лопнуть скрипичная струна. Пепсиколова ощутила ненависть, беззвучно потрескивающую в воздухе вокруг нее. Она была почти физической силой. Как и убеждение, что сейчас ей продемонстрируют нечто невыразимое. Мгновение длилось бесконечно, и когда Аня была готова разразиться истерическим смехом, какой-то Бледнолицый пролез в дыру с факелом в руках.
— Узри, Анна Александровна, оружие, с помощью которого мы уничтожим Москву, Московию и всю Россию.
Пепсиколова недоверчиво уставилась на владык.
Вернувшись в «Новый Метрополь», Аркадий обнаружил, что по-прежнему не способен вытравить из сознания яркие образы. Все эти вещи он действительно вытворял! Живот сводило только при мысли о них. Однако в то же время его тело предательски блаженствовало в этой грязи.
— Я не понимаю, святой отец, — обратился он к наставнику. — Там были мужчины, и я использовал их, как использовал бы женщину. И я… — Голос Аркадия охрип от стыда. — Я… Я позволял использовать меня таким же образом.
— Почему ты озадачен, сын мой?
— Потому что я не…
— Не?
— Нет… ну… один из них.
— Один из кого?
Аркадий покраснел как рак и выплюнул:
— Не педик! Доволен? Я не проклятый извращенец!
— Человеческое тело — гнусная штука, если вдуматься, — вымолвил Кощей. — Древний пророк писал, что Любовь выстроила свой храм в отхожем месте — а что есть данное отхожее место, если не Земля? Мир — навозная куча, и те, кто ползает по нему, суть паразиты, которым повезло лишь в том, что их пребывание здесь кратко.
Посему же величайшее благо — вовсе не родиться. Если это не удалось, то смертного ждет короткая жизнь. Но мы должны полагаться на Волю Божью и преодолевать испытания в нашем Аду. Однако самоубийцы отправляются в настоящий Ад: в самое злое место во всей вселенной. Иными словами, он в точности подобен этой Земле, за исключением одной важной детали. В чем же она заключается? А в том, что Ад полностью разведен с Богом. Разве не так, сын мой?
— Так ты учил меня, святой отец.
— Но как же мы тогда можем утверждать, что этот мир и есть на самом деле Ад? Ведь здесь существует удовольствие, а в Преисподней такого просто быть не может. Во-первых, тут мы способны погружаться в переживания религиозного экстаза — высочайшее из всех удовольствий. Во-вторых, на Земле накоплен опыт гонений несправедливыми людьми за удовольствие, данное только испытываемому в присутствии Бога. Очень немногие удачливы настолько, чтобы пережить первое, или благочестивы настолько, чтобы оценить второе. Но есть и третье доказательство того, что мир не есть Ад, а именно — удовольствие секса, доступное каждому. Хотя само деяние отвратительно, порождаемое им удовольствие чисто. Оно исходит не от плоти, которой следует гнушаться, но от Духа, который человеческие души должны принять, а иначе же они будут прокляты. Следовательно, никакое удовольствие не зло и не является неправильным и не подлежит избеганию, как бы сильно ни шарахалось от него сознание. Ты понимаешь меня, сын мой?
— Да, добрый отец мой.
— Тогда преклони колени и получи благословение.
Аркадий повиновался. Он закрыл глаза, ожидая, когда рука монаха опустится на его голову. Но ничего подобного не произошло. Вместо этого он услышал шелест спадающей на пол рясы Кощея.
«Опа», — подумал Аркадий.
Довесок помог Зоесофье сесть в карету, а затем обошел экипаж и сам забрался внутрь. Лакей молча закрыл за ним дверь. Внутри царил полумрак, а мягкие и глубокие подушки манили к отдыху. Расстояние между Довеском и Жемчужиной было не больше ладони. Однако Зоесофья держалась с такой ледяной чопорностью, что с тем же успехом, их могли разделять и мили.
Кучер тряхнул вожжами, и лошади тронулись.
— Ты тиха сегодня, о Темное Пламя Запада.
Некоторое время Зоесофья смотрела в окно на проплывающие здания. Потом, не оборачиваясь, произнесла:
— Ты никогда не должен прикасаться к Жемчужинам.
Довесок ответил уязвленным тоном:
— Мадам, я джентльмен! С тем же успехом можно сказать, что я истово верю в серийную моногамию.
— По моему опыту, мысли джентльмена и его поступки редко совпадают между собой. Но позволь спросить тебя о следующем: предположим, ты поцеловал одну из моих сестер — к примеру, Олимпию, едва коснулся кончиков ее пальцев, и на ее коже не появились волдыри. Что, по-твоему, стала бы она делать дальше?
— Вероятно, она бы ухватилась за возможность избавиться от мучительной девственности. Но я бы никогда…
— Все мои сестры добросердечны и щедры. Их такими создали. Поэтому Олимпия сперва поведала бы сестрам о счастливой возможности. Затем, уже группой, они бы набросились на тебя. А теперь я хочу, чтобы ты припомнил последние несколько ночей и спросил себя вот о чем: в каком состоянии ты бы пребывал сейчас, если бы я была здесь в шести экземплярах?