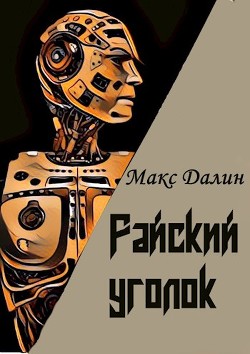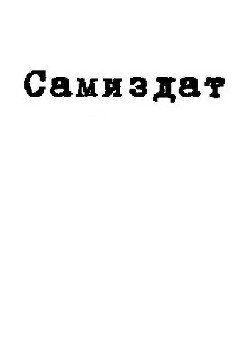простолюдины, воспламенённые идеей, говорили, что я буду новым святым королём на нашем престоле – не говоря уж об аристократах из моей свиты: они умели думать широко и считали, что за мной будущее.
Мне только одно портило хорошее расположение духа – этот братец Доминик, шпион поганый. Таскался за мной как тень. Книжки ему нужны, бумага ему нужна, чернила ему нужны! Мы куда отправляемся, воевать или писульки писать?! А скажешь ему, что Иерарх его послал, значит, дело церкви и обеспечивать всем этим барахлом – он ещё и рот откроет для дерзостей:
– Церковь и так много помогла вашему начинанию, ваше высочество.
Приходилось отвлекаться на всю эту чушь. Но я точно знал, что избавлюсь от этого Доминика, лишь только момент придёт. Придумаю как. При моей особе и без сопливых был отличный священник, брат Бенедикт. Представляете, дамы и господа, святой наставник его прихода написал письмо Иерарху – и Бенедикта официально благословили в дорогу. Я уверен, он сам вызвался. Вот это я понимаю: сильный, храбрый, добрый монах, действительно святой жизни, а не мразь, которая там, среди свиты Иерарха, Бог знает какими гнусностями сделала карьеру. Я ужасно радовался, что хоть один священник при нас будет настоящий. К отплытию мы с братом Бенедиктом так воодушевили людей, что они с нами хоть на Чёрный Юг, хоть в преисподнюю, повсюду были готовы.
Я бы перед самым отплытием избавился от Доминика, этой вши докучной, – но провожать прибыли отец и сам Иерарх, в резиденции ему на старости лет не сидится. Представляете, ведь притащился же сюда за восемьсот миль, через пролив – не лень было! И только для того, чтобы уже совсем напоследок ещё разок меня попилить, чтобы я себя не забывал. Вдруг я невнимательно читал его письмо, как можно! Пришлось демонстративно взять этого его любимчика – ну и хорошо, думаю. Гадёныш сам виноват. Остался бы дома – был бы целее.
Иерарх ещё говорил, что я, мол, должен возлюбить всё оставленное дома – ибо, в сущности, иду сражаться за… ну, за это самое. За оставленное.
Звучало хорошо, я не спорил. Я вроде бы действительно собирался за всё это сражаться, но уж не жалел ни о чём, ни капли, ни на грош не жалел. Ни о братцах, которые жали руки и желали удачи таким тоном, будто действительно хотели моей удачи, ни об отце с его «помолчите, Антоний!». Ни о своих бедных вдовушках, которые разливались белугами. Всё это мне так надоело, что я и думать о милой родине не хотел.
А если мне и было горько что-то оставлять, так это Бульку. Она сидела у ног Эмиля, поскуливала и так глядела на меня и на море, будто всё-всё понимала. Я бы её взял, но думал, что будет смертельно обидно, если недосмотрю – и убьют мою собаку. Пришлось оставить её Эмилю… а он и рад, зараза.
Но это всё сантименты.
Всё равно наши семь кораблей отплывали, как лебеди, под благословения, пение монастырского хора и радостные вопли горожан, которые, кажется, образумились и тоже прониклись, потому что искренне желали нам счастливого пути. У нас на палубе брат Бенедикт жёг благовония в походной курильнице, пел басом и давал всем желающим приложиться к Всезрящему Оку Господню и Длани Животворящей и Карающей. Все чуть-чуть хлебнули, конечно, – на радостях, на удачу, только что портки с парусами не путали. Очень веселились. Только этот гадёныш Доминик сидел на бухте каната трезвый, злой какой-то, зыркал на всех и думал всякий греховный вздор. Никакого Божьего света от него не исходило. Тогда я и подумал: не такое уж он и духовное лицо, хоть и любимчик Иерарха. А раз так – пусть пеняет на себя, ха!
Плавание прошло не то чтобы весело, но не так уж и скучно.
Никто из чужих в море не попался. Было бы забавно, конечно, потопить какое-нибудь языческое корыто, но если нет, так уж и нет. Господня воля.
На самом деле плебсу, вероятно, было гораздо скучнее, потому что места в кубрике и на команду-то еле-еле хватало. Как они там теснились – уму непостижимо. Как селёдки в бочонке, ха! Спали по очереди. Так что развлекались, конечно, выпивкой. Рома и вина оказалось вполне в достатке. Дорога не такая уж дальняя, никто это добро особенно не экономил, а пожертвовали его изрядно. Брат Бенедикт сначала пытался проповедовать о вреде пьянства, но потом ему тоже налили – и он так и не просох до самого берега. В общем, трезва была только команда. Капитан флагмана оказался типом не то чтобы неприятным, но слишком надменным для плебея. Ему не понравилось, что матросы пьют с солдатами, – и он разом прекратил это дело. Попросту велел обвязать пьяных под мышки верёвками и швырнуть за борт на четверть часика. То ещё развлечение! Из пятерых один утонул – а остальные, глядя на это, призадумались.
Я ему не мешал. Матросы и должны быть трезвыми, иначе мы до земли никогда не доберёмся. Уморительно, как эти бедолаги пялились на солдат с завистью, облизывались, а присоединиться не могли! Впрочем, я подумал, что на суше они наверстают своё.
Кое-кто, конечно, спьяну принялся выяснять отношения… но это так, по мелочи. До поножовщины не дошло: брат Бенедикт им всё-таки хорошо внушил, что мы направляемся на святое дело, а не как-нибудь. Нечего размениваться на ерунду. Но смешнее, что наш драгоценный братец Доминик, который так ни капли и не выпил, всё-таки нарвался – мне даже не пришлось самому всё это начинать.
Вечерком, вторая неделя плавания уже шла к концу, я сидел с баронами в каюте и играл в фишки-шарики. Ставки делали пустячные, но всё равно приятно, что везло, даже если всего на золотой – дело-то не в золотом, а в самой игре, да и примета хорошая. Мои приближённые, конечно, не ром хлестали – у нас было вино с Побережья, из чёрного винограда, тридцатилетнее, настоящее королевское вино. Подарочек батюшки моей покойной невестушки. Мы, конечно, не нажирались в хлам, как плебеи, но чуточку выпили, и было ужасно весело. Вот тут в каюту и вломился этот Доминик.
Без стука, ха! Стоило на него взглянуть, как стало ещё веселее!
Кто-то его как следует приложил по физиономии – синяк во всю скулу. Рукав от балахона отодрали напрочь, на плече царапина. И глаза бешеные. Красотища – такое представление и комедианты не покажут!
– Ах! – говорю. – Вы, что же, дрались, слуга Господень? Не