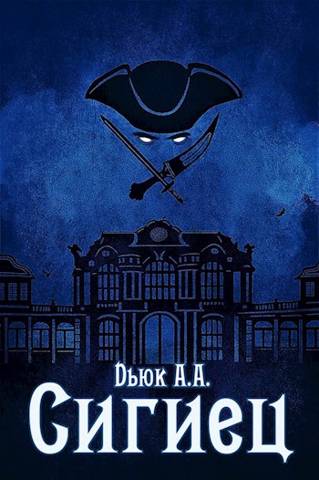представительства Ложи в этом городе, — сказал крысолов, не опуская рук, — прошу зафиксировать и засвидетельствовать, что разыскиваемый преступник против Равновесия отказался сдаться и был убит при попытке задержания.
Губерт глянул на него из-под бровей, цокнул языком, брезгливо отпихнул с дороги женскую тряпку носком сапога, прошелся по комнате и остановился в паре шагов от окровавленного, с лишними, не предусмотренными природой дырками трупа. Хватило нескольких коротких взглядов, сверившись с портретом, чтобы прийти к очевидному выводу: рожа на пермите и рожа под окном — одна и та же, хоть и с разницей в несколько лет. Крысоловы, конечно, были сборищем отбросов, бывших каторжников и уголовников, но в одном их упрекнуть нельзя: они не ошибались. По крайней мере, надзиратель ни разу не слышал, чтобы кто-то рассказывал об ошибившихся крысоловах.
— Опустить оружие, — скомандовал Штренг. Полицейские с большой неохотой поставили курки на предохранительный взвод. Надзиратель повернулся к крысолову, сурово взглянул исподлобья, постукивая себя по плечу саблей. — Не стой, как сыроед пленный. Свободен.
— Благодарю, — сказал он, опуская руки.
— Что, вынес за Ложей мусор залежавшийся? — хмыкнул Губерт.
— Да.
— Ждешь, когда в ножки поклонюсь да спасибо скажу?
— Жду, когда вернешь пермит.
Надзиратель потряс документ, почему-то сомневаясь, стоит ли его возвращать, но все же передал крысолову и отошел на пару шагов. Что-то в нем было такое, отчего невольно возникало желание держаться подальше.
— Покойника сам вынесешь или трупоносов звать? — деловито поинтересовался Штренг.
— Он без надобности.
— Ну да, конечно, — мрачно усмехнулся надзиратель, со злостью вогнав саблю в ножны, и уперся в бока. — А мне, значит, теперь рапорт в Ложу твою писать, да?
— Да.
— Ну и как тебя, герой, в рапорте обозначить?
— Хуго Финстер, — ответил крысолов, на мгновение задумавшись.
На сцену Морского Театра опустился занавес, скрывая от публики двух влюбленных, которые, преодолев превратности судьбы на пути к взаимной и пылкой любви, застыли в многозначительном молчании, обратив взоры в неопределенное будущее. Зал взорвался овациями — пьесы Дарштеллера иначе не заканчивались никогда. На сцену вышли герои и злодеи и, выстроившись длинной цепью, обнимая друг друга за плечи, раскланялись перед благодарной публикой. Кто-то из зала бросал к их ногам розы.
О том, что произойдет дальше, Карл Адлер старался не думать. Наверняка влюбленной, молоденькой актриске, тоненькой, легкой, сияющей светом невинной юности, за кулисами поднесут огромный букет и записку от поклонника ее таланта. Наверняка этот поклонник далеко не первый в ее жизни. Наверняка все закончится довольно прозаически. Адлер не хотел думать о прозаичности жизни. Он наслаждался моментом очаровательной лжи — мастерством высокого искусства театра показать жизнь такой, какой она никогда не будет, — и хлопал в ладоши с искренним восхищением.
Адлер ценил красоту искусства. Красота, пожалуй, была единственным в жизни, что он действительно ценил. В детстве Карл мечтал стать художником. Или танцором. Или музыкантом. Или великим поэтом и складывать слова в красивые узоры рифм. Он мечтал стать тем, кто дарил бы людям красоту, однако пришлось довольствоваться малым и восхищаться красотой лишь со стороны.
Сестры Фернканте, Клара и Елена, смахивали слезы восторга. Если бы не воспитание, пищали бы от радости. Они тоже ценили искусство — Адлер потратил много времени и сил, чтобы привить им любовь к прекрасному. Но еще больше усилий потребовалось, чтобы обучить девиц хорошим манерам.
В светских кругах Анрии ходило много слухов о характере отношений Адлера с сестрами Фернканте, от самых пресных и банальных до фантастических. Подтвердить их или опровергнуть никто так и не смог. Адлер был для анрийского света загадкой, которая хоть и не чуралась выхода в свет, посещала каждый салон, банкет и бал, но всегда оставалась где-то в стороне. Кто-то, так и не сумев уличить Адлера в любовных связях с видными дамами, строил самые смелые догадки о его отношениях с бароном Фернканте. В Анрии вообще обожали кого-нибудь обсуждать, и считалось дурным тоном не давать повода для сплетен. Ведь если на страницы политических журналов не раз попадал голый зад самой кронпринцессы в разнузданной позе с задранной юбкой в окружении неких господ со спущенными штанами и смиренно взирающих на непотребство кайзера и наследника, чем анрийская элита хуже? Конечно, смакование чьих-то местечковых интрижек не идет ни в какое сравнение с обсуждением монаршей задницы, в которую Империю не поимел только ленивый, но хоть что-то.
Однако сплетники были бы крайне раздосадованы, узнай они правду. Карл Адлер действительно любил и старого барона, и его дочерей. Более того, испытывал к ним нежнейший трепет. Тот же трепет он испытывал, любуясь живописью или скульптурой. Многих повергало бы в шок открытие, что Адлер, испытывая равное влечение к мужчинам и женщинам, не имел за свою жизнь ни одной любовной связи.
Его влекла лишь красота, он мечтал, чтобы красота правила миром, лишенным уродства. Машиах когда-то заразил Адлера такой идеей, поверившего, что однажды это станет возможным — будущее довольных, счастливых людей, не испытывающих нужды удовлетворять животные потребности, стремящихся творить и нести красоту миру…
Но это было давно. Настолько давно, словно в прошлой жизни.
Когда Адлер под руку с сестрами Фернканте вышел из Морского Театра, уже стемнело. Он вдохнул свежий после недавнего дождя ночной воздух и огляделся по сторонам. На округлой площади перед театром в свете фонарей все еще стояло несколько экипажей, однако кареты барона Адлер не заметил.
Он тяжело вздохнул: Хенрик, кучер барона, был не самым добросовестным и ответственным. Адлер не понимал странной привязанности Фернканте к этому пьянице, который каждую свободную минуту посвящал выпивке. Вот и сейчас наверняка нализывался в каком-нибудь кабаке, совершенно позабыв, что пьеса заканчивается ровно в десять.
Адлер достал из кармана часы, взглянул на циферблат — стрелки спешили к половине одиннадцатого. До дома Фернканте ехать около часа. Можно было бы подождать, когда у Хенрика проснется совесть, но велика вероятность, что она уснула крепким сном в обнимку с ее обладателем и бутылкой. А вернуть барону любимых дочек Адлер обещался до полуночи.
Карл закрыл часы и решился.
Он подошел к краю дороги, высвободил руку из объятий Клары и высоко поднял над головой.
Кучер одного из экипажей хлестнул лошадь вожжами, нетерпеливо срываясь с места, словно только этого и ждал. Адлер многозначительно хмыкнул. Он, конечно, поддерживал народ и уважал право на заработок, но что-то в таком рвении извозчика показалось неприятным. Что-то было в этом животное и низменное. Будто стая волков или стервятников, где самый крупный самец расталкивает тех, что послабее, чтобы первым урвать лакомый кусок.
Экипаж остановился перед Адлером и сестрами. С козел спрыгнул лакей, неуклюже раскланиваясь, попятился до дверцы кареты, широко распахнул ее и вновь поклонился, приглашая внутрь.
Адлер снова вздохнул и помог сестрам подняться по ступеньке.
— Сколько? — тихо спросил Карл лакея, когда сестры уселись на сиденье.
— Пять крон, — широко улыбнулся тот, сверкнув дыркой вместо переднего верхнего зуба. — Не нервничайте, майнхэрр, дешевле нас никто не берет. Да и домчим быстрее ветра.
Адлер удержался от того, чтобы недовольно поморщиться. Цена откровенно грабительская, но делать было нечего. Он назвал адрес, сел в карету напротив сестер. Лакей с улыбкой закрыл дверь. Карл не заметил, как у того дрожит рука, не увидел и отразившейся паники на небритой физиономии.
Лакей влез на козлы, уселся рядом с кучером, нервно расчесывая кожу за ухом. Кучер взглянул на него из-под треугольной шляпы и молча хлестнул вожжами лошадь.
* * *
Неладное Адлер заподозрил слишком поздно, заболтавшись с восторженно щебечущими сестрами о тонкостях драматургии Дарштеллера. Карл выглянул в окно и с волнением осознал, что карета движется отнюдь не к дому Фернканте, а в сторону набережной. И не Гранитной, а значительно дальше вниз по реке, к фабричным районам. К заброшенной фабрике, больше похожей на израненное, умирающее древнее чудовище с множеством выколотых глаз, чем на построенное людьми здание.
Адлер постарался не выдать своего волнения и страха. Не хватало еще, чтобы сестры впали в истерику. Женщина в состоянии истерики — не самое красивое зрелище. А если их две — еще и опасное.
Адлер заговорил о высоком искусстве с удвоенным энтузиазмом, приковывая к себе внимание и всячески