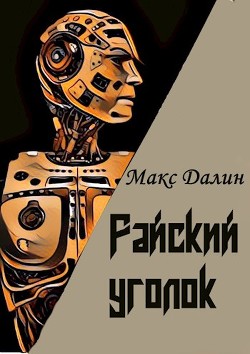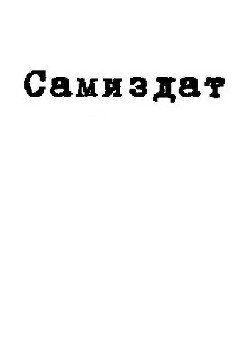оплакивал, вот что. Язычников. Мне стало жутко и ужасно захотелось, чтобы он перестал, захотелось… не знаю, дотронуться до него захотелось… пожалеть… но он отворачивался в сторону.
– Прости мне, Господи, – шептал он, всхлипывал и шептал: – Как я тебя ненавижу, принц! Ты за свою жизнь хоть однажды, хоть кому-то сделал добро? Хоть крохотное? Ты хоть одну душу любил? Хоть какую-то живую тварь любил, а, принц?
Я растерялся, и щёки у меня горели. Огнём. Вообще было адски жарко.
– Лошадь, – говорю. – Собак люблю… у меня дома пойнтер остался, Булька, она очень славная, – сначала сказал это, а потом сообразил, что несу чудовищную чушь.
Но Доминик перестал плакать, вытер лицо рукавом и посмотрел на меня. А я почему-то увидел, – будто до сих пор я его не видел или видел как-то иначе, – что он худющий и совершенно замученный, что у него со скулы синяк никак не сойдёт, и под глазами чёрные пятна, и сами глаза ввалились, а нос заострился. И тут я впервые подумал, что Доминик вчера вечером, кажется, так и не ел. А позавчера… позавчера его продержали взаперти целый день – и я не помню, приказывал я дать ему пожрать или нет.
Было ужасно тяжело ворочать языком, но я спросил:
– Доминик, ты хочешь поесть?
Он не то чтобы усмехнулся, но двинул уголком рта:
– Я очень давно хочу есть. Я уже не помню, когда я ел, как все люди. Тебя это занимает?
Оттого, что он это сказал, мне стало отчаянно плохо. Не могу описать, как – просто плохо. Я первый раз за всю жизнь, наверное, ужасно захотел всё это как-нибудь переиграть. Я захотел, чтобы мы оказались в нашем порту, когда корабли ещё только собирались отплывать. Или нет – чтобы мы оказались в столичном дворце, когда Доминик привёз письмо Иерарха. Но чтобы я каким-нибудь образом знал обо всём, что потом случится – чтобы всё сделать иначе.
Я поискал глазами остатки ужина – страшно надеялся, что их не забрали, и их не забрали, слава Богу. Корзина ещё стояла на походном поставце около койки – и в ней лежали пара хлебцев, здешних, круглых и плоских, куриная нога и несколько персиков. А в кувшине, кажется, осталось вино.
– Там, в корзине, есть еда, – сказал я. Старался, чтобы прозвучало очень милостиво.
Доминик посмотрел на меня насмешливо, вот Богом клянусь – насмешливо. И уничтожающе:
– В самом деле? Как занятно…
Он даже не пошевелился. Я подумал, что он ужасно устал, почти смертельно. Я встал, взял корзину и кувшин и принёс на постель. Поставил перед ним. Доминик посмотрел на корзину, будто не мог понять, что это такое.
– Послушай, – сказал я, а сам удивлялся, как трудно выговариваются слова, – поешь?
Он взглянул на меня внимательно и оценивающе, вытер ладони о подол балахона, вытащил из корзины хлеб и откусил. Я сел рядом и стал смотреть, как он ест, – и от этого зрелища было не оторваться. Чудно, дамы и господа?
Доминик так сглотнул, что я ему подвинул кувшин. Он заглянул внутрь, отставил в сторону и сказал:
– Не буду пить. Мне нельзя. Я не могу молиться пьяный. Принеси воды.
И я пошёл за водой, как паж, которого послали с поручением. Это было даже не унизительно, просто жутко непривычно и непонятно. Дело в том, что я сам хотел, чтобы Доминик напился. Я подумал, что у шатра бьёт этот родничок и что я наберу там свежей воды во флягу.
Я вышел из шатра. Стояла тихая ночь, будто никаких мертвецов и не было. Небо на востоке уже понемногу светлело, и костры всё горели; я услышал, как лошади топчутся и фыркают, как часовые звякают оружием и амуницией, – и подумал, что сгоревшие мне почудились. Морок. Просто морок.
У родника стоял часовой, немного видный в потёмках; он отсалютовал саблей. Я набрал воды и пошёл назад как во сне. Уже у самого шатра споткнулся о мягкое.
Месяц стоял узенький, но яркий, даже вдалеке от костра кое-что отчётливо виделось. Этим мягким был труп брата Бенедикта, вот что. Золотое Око Божье, с сапфиром в зрачке, трижды благословлённое, древнее, поблёскивало в лунном свете, а лежало оно в сплошной рваной ране. Моему духовнику кадык вырвали и ещё, кажется, из груди вырывали клочья плоти вместе с лоскутьями балахона, щёки выгрызли – так что лицо выглядело освежёванным черепом. Белые рёбра торчали вверх, как разделанные свиные рёбра в лавке: наверное, сердце тоже вырвали. Но крови на траве не было ни капли, а мясо Бенедикта оказалось чистеньким, тоже похоже на свинину или телятину у прилежного мясника. Может, его языками вылизывали? Или – чем? Но всё это было сделано так тихо, что часовой в десяти, ну пусть двенадцати шагах ничего не услышал.
А ведь Бенедикт должен был орать во всю глотку, подумал я. Или он не мог? Как я не мог, когда они отовсюду лезли… Вот же мука, когда хочешь выть от ужаса и от боли – и не можешь…
Это меня сильно зацепило, но как-то странно. Бенедикт был старше Доминика, опытнее; у него Око имелось старинной, чистой работы, драгоценное, а на молитвеннике – охранные знаки от выходцев с того света. Но его ужасно тихо убили те самые мертвецы, которые приходили за мной.
А я так хотел избавиться от Доминика, а Бенедикта оставить при себе…
Я не стал поднимать тревогу. Переступил через труп и пошёл дальше. Принёс в шатёр воды. Доминик ждал; взял у меня флягу и отпил, наверное, сразу половину, жадно, выплеснув несколько капель себе на грудь. Глаза у него немного прояснились.
– Там Бенедикт мёртвый, – сказал я.
– Да? – отозвался Доминик рассеянно. – Надо было этого ждать…
– Ты меня спас, – сказал я, сам прислушиваясь к своим словам. – Я тебе обязан. Правда. Что ты хочешь?
Доминик опустил флягу, которую поднёс было снова к губам.
– Да ничего я от тебя не хочу, Антоний! – сказал он раздражённо. – Я вообще не знаю, почему стал молиться за тебя! Может быть, только потому, что не могу позволить убить кого-нибудь, если есть силы этому помешать! Ясно?
Он совершенно зря злился – я вовсе не собирался платить ему за услуги как лакею. Я сказал «обязан» чисто фигурально. Имел в виду долг чести… и даже дружбы, если вообще возможно человеку светскому дружить с монахом. Доминик упорно не хотел слушать, и верить тоже не хотел, но мне всё равно надо было донести, как я благоволю к нему. Мне показалось, что