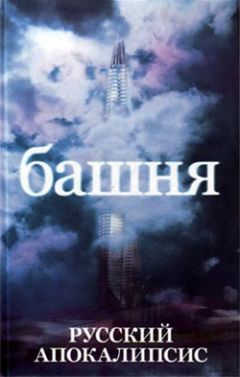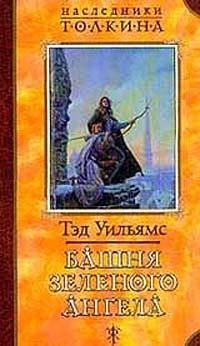вином ночей и моей собственной боли, от которой я пытался таким способом избавиться, радость, найденная мной в жизни, скоро меня покинула.
Ребенком я почитал богов моего народа. Повзрослев, в них усомнился и стал верить в единого бога эйдонитов — единого, хотя Он ужасным образом связан с Усирисом, Его сыном и Элизией, Его благословенной матерью. Позднее, в самый разгар обучения, я отринул всех богов, как старых, так и новых. Но определенный трепет сжимал мое сердце, когда я стал мужчиной, и теперь снова верю в богов… О да, я к ним вернулся!.. И твердо знаю, что проклят. — Монах рукавом вытер глаза и нос.
Он полностью оказался в темноте, и даже лунный свет больше не освещал его лицо.
— Проклят? — спросила Мириамель. — Что ты хочешь сказать? Каким образом?
— Понятия не имею. В противном случае я бы давно нашел какого-нибудь одинокого мага, чтобы тот сделал мне защитный амулет. Нет, я шучу, миледи, и шутка получилась не из веселых. Существуют проклятия, не поддающиеся никаким заклинаниям, — в точности как есть удача, которую не способен уничтожить дурной глаз или завистливый конкурент, только сам человек может ее потерять. Мне лишь известно, что давно мир стал для меня тяжким бременем, которое не в силах вынести мои слабые плечи. Я превратился в настоящего пьяницу — не местного шута, который сначала слишком много пьет, а потом громко поет на пути домой, не давая спать соседям, а хладнокровным, одиноким искателем забвения. Книги служили мне единственным утешением, но даже они, как мне казалось, выдыхали могильный смрад: речь в них шла только о мертвой листве, мертвых мыслях и, что хуже всего, мертвых и бессмысленных надеждах, миллион мертворожденных на каждую, жившую всего несколько мгновений, точно мотылек.
Я пил, проклинал звезды и снова пил. Пьянство привело меня к безнадежности, и мои книги, в особенности та, которая в то время увлекала меня больше других, лишь усугубляли мое положение. Поэтому забвение казалось мне все более желанным. Вскоре меня уже не хотели видеть там, где я прежде был другом, и это усиливало мою горечь и обиду. Когда хранители библиотеки Тестейна заявили, что больше не станут меня пускать, я погрузился в глубокое отчаяние, и в течение нескольких месяцев так сильно пил, что пришел в себя на обочине дороги возле Эбенгеата, голый, без единой монетки, даже медной.
Одетый только в ветки и листья, как животное, я ночью пришел к дому аристократа, с которым был знаком, доброго человека, любившего знания, — время от времени он выступал моим добровольным покровителем. Он впустил меня, накормил и предоставил ночлег. Когда взошло солнце, он дал мне монашескую сутану, принадлежавшую его брату, и пожелал удачи.
В то утро я увидел в его глазах отвращение, миледи, презрение, с которым, надеюсь, на вас никогда не посмотрит другой человек. Он знал о моих пороках и не поверил в придуманную историю о том, что на меня напали грабители. Я понял, стоя на пороге его дома, что перестал принадлежать к сообществу достойных людей и превратился в переносчика чумы. К столь плачевному состоянию меня привело пьянство, и мое проклятие стало очевидным для других, каким уже давно было для меня.
Голос Кадраха, тоска в котором усиливалась, превратился в хриплый шепот. Мириамель долго прислушивалась к его тяжелому дыханию, не зная, что сказать.
— Но что такое ты совершил? — наконец спросила она. — Ты говоришь, что проклят, но ты не сделал ничего плохого, если не считать того, что пил слишком много вина.
Кадрах хрипло рассмеялся, и его смех совсем не понравился Мириамель.
— О, вино требовалось для того, чтобы приглушить боль. Так всегда бывает с пятнами бесчестья, миледи. Хотя другие люди, в особенности невинные, как вы, не всегда их видят, они никуда не деваются, и другие их чувствуют, как звери в поле понимают, если кто-то из их числа болен или безумен. Вы ведь пытались меня утопить, не так ли?
— Но это совсем другое! — негодующе воскликнула Мириамель. — Я разозлилась из-за того, что ты сделал!
— Не беспокойтесь, — пробормотал монах. — Я совершил немало дурных поступков с той ночи у дороги в Эбенгеате, которые оправдали бы любое наказание.
Мириамель подняла весла и сложила их в лодку.
— Здесь достаточно мелко, чтобы бросить якорь? — спросила она, стараясь сохранять спокойствие. — У меня устали руки.
— Сейчас я попробую выяснить.
Пока монах возился с якорем, Мириамель пыталась придумать, как ему помочь. Чем больше она вынуждала его говорить, тем сильнее он страдал. И Мириамель чувствовала, что его прежнее веселье было всего лишь тонкой оболочкой, частично защищавшей кровоточившие раны. Так стоило ли заставлять его продолжать, когда он испытывал такую невероятную боль, или лучше оставить в покое? Она пожалела, что рядом нет Джелой или маленького Бинабика с его умом и осторожностью.
Когда они сбросили наконец якорь и веревка стала быстро уходить в воду, они некоторое время сидели молча. Наконец Кадрах снова заговорил, но теперь его голос звучал не так мрачно.
— Якорь остановился на глубине около двадцати элей, так что, возможно, мы находимся ближе к берегу, чем я думал. И все же вам следует попытаться поспать, Мириамель. Завтра нас ждет долгий день. Если мы хотим добраться до берега, нам придется грести по очереди, чтобы не останавливаться.
— Возможно, рядом окажется корабль, который нас подберет? — проговорила Мириамель.
— Я не думаю, что для нас это будет удачным исходом. Не забывайте, что сейчас Наббан полностью принадлежит вашему отцу и Прайрату. Нам лучше самим добраться до берега и исчезнуть в более бедной части Наббана, а потом отправиться на постоялый двор Ксорастры.
— Ты так и не рассказал про Прайрата, — храбро сказала она, рассчитывая, что не совершает ошибку. — Что произошло между вами?
Кадрах вздохнул.
— Вы действительно хотите, чтобы я вам рассказал столь ужасные вещи, миледи? Только слабость и страх заставили меня упомянуть о них в своем письме, когда я боялся, что вы совершите ошибку относительно графа Эдны.
— Я не стану тебя заставлять говорить о том, что причиняет боль, Кадрах. Но я бы хотела знать. Ведь именно эти тайны стали причиной наших несчастий, разве не так? И сейчас не время их скрывать, какими бы ужасными они ни оказались.
Монах медленно кивнул.
— Сказано королевской дочерью, и сказано правильно. О, боги земли и неба, если бы я знал, что настанет день, когда мне придется рассказывать эту историю и говорить: «Такова моя жизнь», я бы предпочел засунуть голову в печь отца.
Мириамель ничего не ответила, лишь сильнее закуталась в плащ. Часть тумана