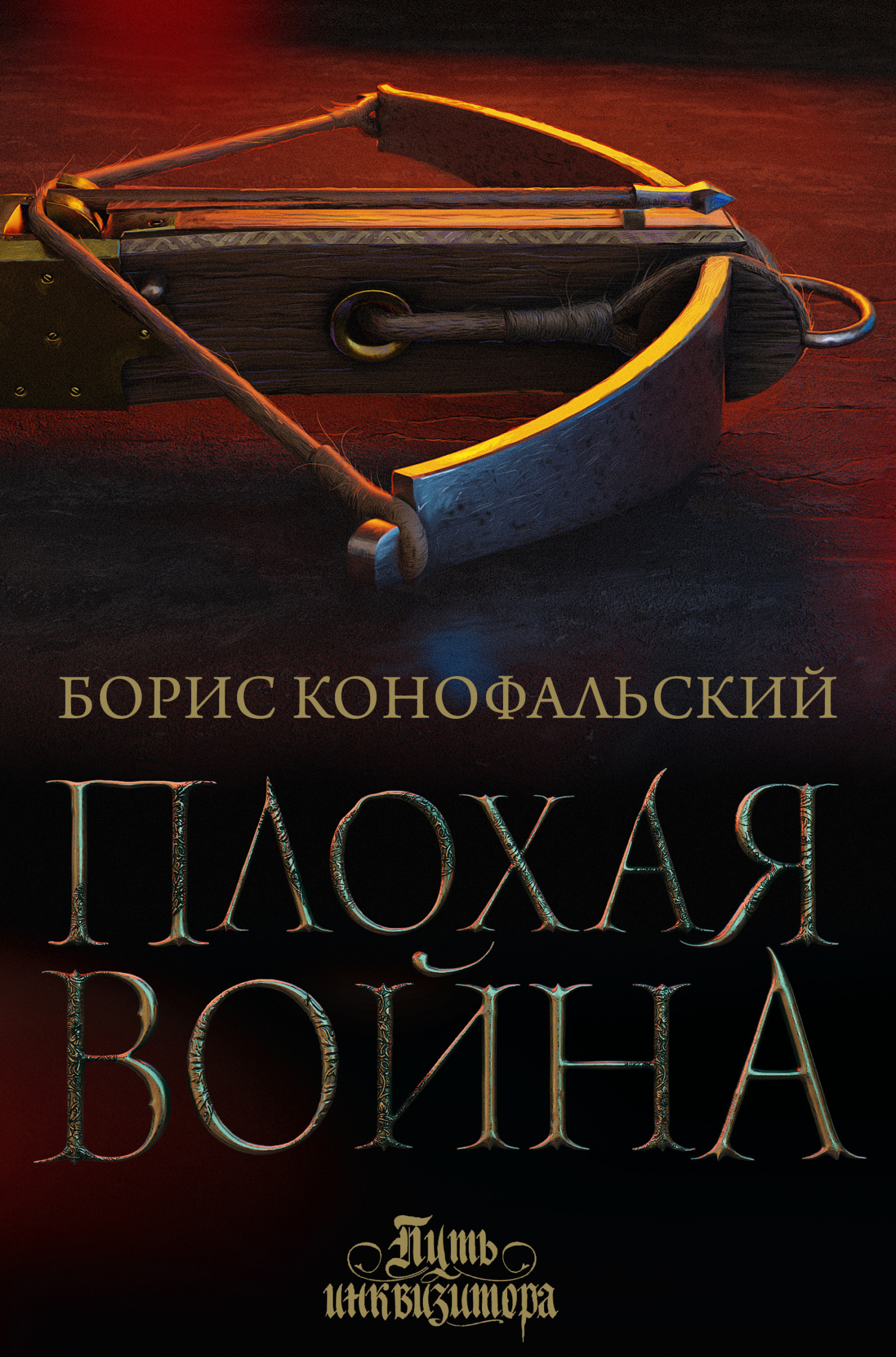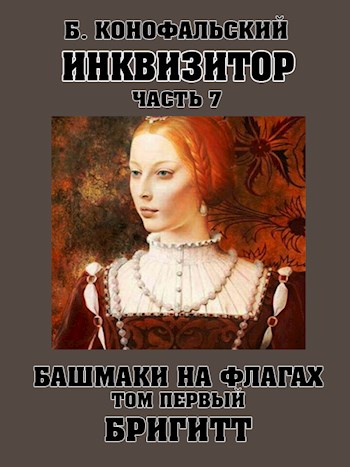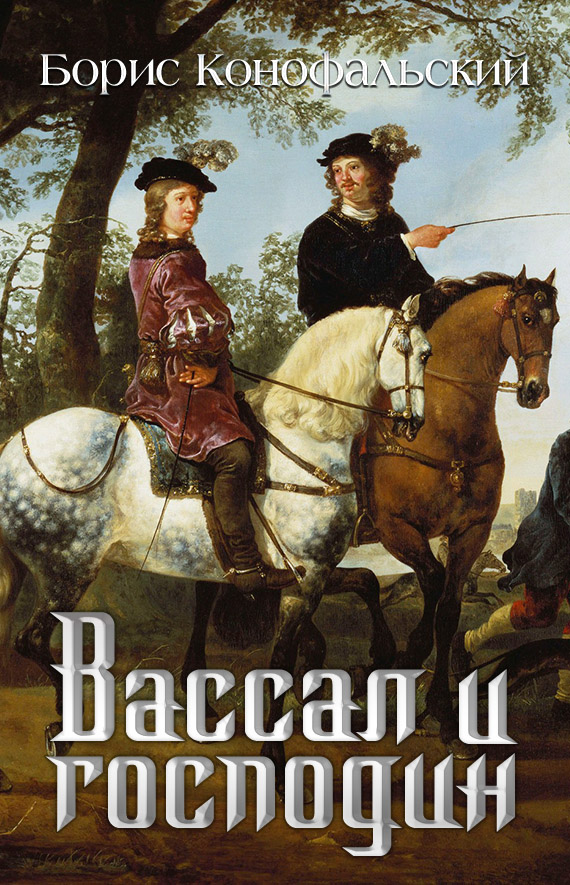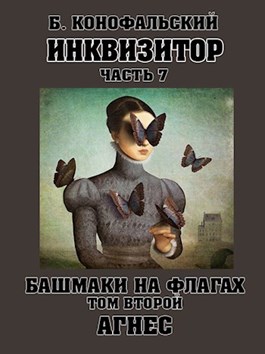его воли.
– Вам нечего опасаться, – проговорил Фолькоф, глядя, как писарь косится на это великолепное золото. – Никто никогда о том не узнает, и ни стыда, ни позора в том нет, вы же не из корысти помогать будете врагу, а для того, чтобы враг стал другом и добрым соседом. Чтобы была любовь промеж нами, ведь и Господь учит нас любви. Ведь учит?
– Учит, – кивнул писарь.
– Вот и прекрасно, берите деньги и будьте моим другом.
Волков протянул ему руку. Господин Веллер с почтением пожал руку кавалеру и… принялся собирать деньги со стола. Дело сделано. Кавалер был доволен, Сыч улыбался.
– Вы будете встречаться с вашим другом купцом раз в две недели, говорить, как идут дела, и писать мне краткие сообщения. Хорошо?
– Хорошо, – опять кивнул писарь.
Волков встал.
– Ну, в таком случае не буду вам мешать.
– А вы не останетесь на обед? – удивился Франс Веллер.
– Нет-нет, у меня много дел, дальше с вами будет общаться господин Сыч, он человек славный и весельчак большой, но обманывать его я вам не рекомендую. Может обидеться. – Кавалер сделал многозначительную паузу. – И все ногти вырвать, один за одним.
Писарь Веллер побледнел и покосился на Сыча. Тот широко улыбался беззубой улыбкой: «Да ну, что вы такое говорите, экселенц?»
– Так что постарайтесь его не злить, – заметил кавалер и пошел к двери.
Люди из свиты последовали за ним, а тут в соседней комнате, за закрытой дверью, что-то уронили и послышались голоса. Волков остановился, приблизился к двери и открыл ее. Там на лавке сидели четыре девки в исподнем, нарумяненные, напомаженные, с голыми руками и плечами. Девки были молоды и хороши собой и уже выпили вина. Одна, самая задорная, протянула к Волкову руки, так что груди ее затряслись.
– Ах, добрый господин, а не вас ли нам велено дожидаться?
– Надоело уже тут сидеть, – добавила другая, – когда вы нас уже позовете, а то вы всё говорите да говорите.
– Цыц, вы, курицы! – Из-за плеча Волкова выглядывал Сыч. – Велено сидеть ждать, так сидите. Когда надо, тогда и позовем. – И, уже обращаясь к кавалеру, продолжал: – Это гостю нашему.
– Я смотрю, ты с запасом взял. Не треснет ли гость?
– Это чтобы посиделки эти ему запомнились. Чтобы когда позовем, так сам сюда ехал.
– И во сколько мне это обойдется? Девки-то молодые, видно недешевые.
– А тут, экселенц, лучше не жадничать, этот писарь нам одним письмецом, одной весточкой все отработать сможет. Так что пусть запомнит, каких ладных девок мы ему приводили.
Волков посмотрел на девок – и вправду ладные, – взглянул на Сыча.
– По лету кантон новую войну начнет, а может, и по весне, как только дороги станут, у меня каждый талер на счету, ты не транжирь. – И пошел к двери.
Сели в лодку, поплыли на свой берег к амбарам. Чего уж там, девок Сыч нашел хороших: молодых, распутных, красивых. Они вызывали интерес у любого мужчины. И у Волкова вызвали бы… не будь у него дома трех вздорных баб. Да еще каких вздорных, каких норовистых баб, упрямых.
Когда только Брунхильда въехала на телеге во двор, когда только вылезала из нее грузно, со вздохами, увидала карету великолепную.
– Вижу, брат мой, балуете вы жену вашу, – произнесла Брунхильда, – у меня, графини, и то такой кареты нет.
Госпоже Ланге, что была тут же, лучше бы промолчать, так нет же, ее, заразу, как распирало:
– Господин сию карету не жене купил.
Брунхильда из телеги вылезла, дух перевела, платье оправила и уже с любопытством поинтересовалась:
– А кому же он ее купил?
– Мне, – отвечала Бригитт и улыбалась, улыбалась подло и с вызовом.
Бригитт словно все дело к раздору вела, к склоке, зачем ей сие – непонятно. Замерла Брунхильда, глядя на Бригитт, так и стоят друг перед другом. Некогда, до беременности, Брунхильда бы в красоте ей не уступила, а сейчас уже не так хороша она. И графиня спросила:
– И чем же вы так господину услужили, что он с вами так щедр был?
– Верностью, старательностью в делах и любовью преданной, – сразу, как будто знала вопрос, отвечала госпожа Ланге.
У этой дряни всегда ответ готов, и говорит она это с притворным смирением. И с такой улыбочкой, от которой Волкову так и хотелось ее по заду хлыстом протянуть. Но ничего подобного он, конечно, сделать не мог, поэтому тоном, не терпящим возражений, он проговорил:
– Госпожа Ланге, прошу вас, уступите покои свои графине.
Бригитт зло глянула на него, всего на мгновение, тут же присела в книксене и все с той же лживой улыбкой отвечала:
– Немедля распоряжусь, мой господин, – и, повернувшись, пошла в дом.
А Брунхильда еще стояла и глядела на него долгим тяжелым взглядом, от которого бывалому воину, не раз смотревшему в лицо смерти, стало не по себе. Только после этого графиня повернулась и пошла в дом, тяжело переваливаясь из стороны в сторону на ступенях. Кавалер поспешил ей помочь, ступени-то от оттепели мокрые, не дай бог, графиня поскользнется, взялся поддержать ее под руку, но она руку вырвала, сама взошла.
И это было только начало.
Вечером того же дня сели ужинать все вместе. Госпожа Эшбахт, госпожа Ланге, графиня, мать Амелия. Помолились. Ели молча. От бабьего злого норова в зале не продохнуть, сидят все и друг друга ненавидят. А тут заявился без спроса Увалень. Взволнован, просит дозволения сказать. Чтобы хоть как-то разбавить бабье общество за столом, Волков и сказал:
– Александр, прошу к столу.
Увалень, большой любитель поесть, осмотрел женщин и замялся.
– Садитесь же! – настаивал Волков.
– Мария! – крикнула на кухню Бригитт. – Тарелку и приборы!
Увалень нехотя сел, нерешительно глядя на женщин.
– Ну, говорите, что случилось, – пока не принесли посуду, попросил кавалер.
Увалень посмотрел на него: «Точно мне говорить?» Даже Элеонора Августа, всегда ко всему безучастная, оказалась заинтригована.
– Давайте же, Александр.
– В трактире купчишка остановился, – начал он.
– Вот уж новость так новость, – с обычной своей изысканной язвительностью заметила госпожа Ланге. – Когда такое было.
А Увалень, взглянув на нее, продолжал:
– Говорит… Говорит, что утром из Малендорфа выехал.
При слове «Малендорф» все, кроме монахини, перестали есть.
– И что же там? – спросила графиня.
– Купчишка сказал… – Александр Гроссшвулле покосился на Элеонору Августу.
– Да не тяните вы уже, экий вы робкий! – воскликнула Брунхильда разгневанно. Она чувствовала себя и вела себя здесь как дома, как и подобает графине.
Увалень взглянул на нее и выпалил:
– Сказал, что поутру старый граф, в себя не придя, преставился.
– Ах! – воскликнула