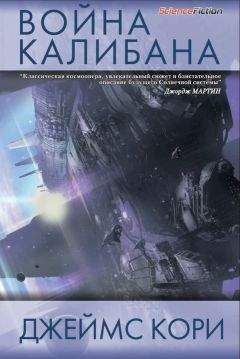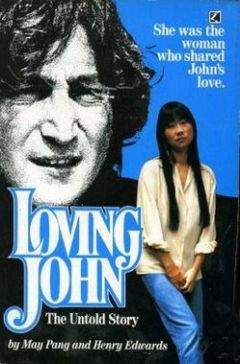— Думаю, ее спас капитан Холден, — возразил Пракс, — но я понимаю вашу мысль.
Пистолет Стрикланда взводился простым движением большого пальца. Пракс поставил его на предохранитель.
— У меня нет дома, — принялся перечислять он, — нет работы. Все, кого я знал, умерли или оказались разбросаны по Солнечной системе. Верховное правительство уверено, что я насиловал женщин и детей. За последний месяц я получил более восьмидесяти открытых угроз — совершенно незнакомые люди желают мне смерти. И знаете, мне все равно.
Стрикланд облизнул губы, метнулся взглядом от Пракса к Амосу и обратно.
— Мне не нужно вас убивать, — сказал Пракс, — моя дочь вернулась, а мстить я не хочу.
Стрикланд глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Пракс видел, как расслабилось его тело, как облегчение и радость чуть изогнули углы губ. Мэй вздрогнула от грохота дробовика, но тут же опустила головку на плечо Праксу — не заплакала и не оглянулась. Тело Стрикланда медленно вытянулось и осело на пол. С того места, где была голова, брызгала на стены артериальная кровь, но с каждым толчком сердца струйки становились слабее.
Амос передернул плечами.
— Или так, — кивнул Пракс.
— Ты как, представляешь, как мы будем отсюда?..
Люк позади них распахнулся, и в нишу ворвался мужчина.
— Что такое? Я слышал…
Амос поднял дробовик. Вошедший попятился, заскулив от ужаса. Амос откашлялся.
— Есть идеи, как нам вытащить отсюда ребятишек?
Ничто в жизни не давалось Праксу так трудно, как вернуть Мэй в клетку. Ему хотелось нести дочку на руках, прижимаясь лицом к ее щеке. Примитивная реакция: самые глубокие отделы его мозга жаждали телесного контакта. Но его скафандр не защитил бы Мэй от радиации и разреженной сернистой атмосферы Ио, а транспортная клетка защищала. Пракс заботливо устроил ее рядом с двумя другими детьми. Амос тем временем укладывал остальных на вторую тележку. Самый младший был еще в подгузниках. Пракс решил, что вряд ли малыш с Ганимеда. Тележка заскользила по потолочной направляющей, дребезжа на стыках.
— Дорогу к поверхности запомнил? — спросил Амос.
— Кажется, да.
— Э, док… ты бы шлем надел.
— О, верно! Спасибо!
На развилке люди в форме службы безопасности строили баррикаду. Они вшестером собирались оборонять станцию. Брошенная Амосом с тыла граната оказалась весьма эффективной, но все же на то, чтобы убрать трупы и остатки баррикады, ушло несколько минут.
Пракс помнил время, когда насилие было для него мучительным. Не кровь и не тела. Он достаточно долго занимался анатомическими исследованиями, чтобы научиться отгораживать сознание от ужаса перед расчлененным телом. А вот то, как люди действовали в ярости, то, что мужчины и женщины, разорванные у него на глазах на куски, не были завещавшими свои тела науке покойниками, прежде воспринималось бы тяжело. Мир лишил его этого свойства, причем Пракс вряд ли сумел бы точно сказать, когда это случилось. Что-то в нем онемело, и, может быть, навсегда. Он отметил потерю, но только рассудком. Из всех чувств в нем осталось только сияющее облегчение, что Мэй была здесь и жива, да еще звериное стремление защищать ее, то есть никогда больше не спускать с нее глаз, пока она остается в этой вселенной.
Везти тележки по грунту оказалось труднее: колеса застревали на неровной поверхности. Пракс по примеру Амоса развернул свою и теперь тянул, вместо того чтоб толкать. С точки зрения физики так было проще, но, если бы не механик, Праксу бы в голову не пришло отвернуться от детей.
Бобби медленно подходила к «Росинанту». Ее скафандр был опален, покрыт пятнами и двигался неуклюже. По спине стекала прозрачная жидкость.
— Не подходите, — предупредила она, — я вся заляпана протомолекулой.
— Плохо, — сказал Амос. — Есть способ отчистить?
— Вообще-то, нет, — сказала Бобби. — Как у вас?
— Набрали детишек. На хоровой кружок хватит, а на бейсбольную команду маловато, — ответил Амос.
— Мэй здесь, — сказал Пракс. — С ней все хорошо.
— Рада слышать, — сказала Бобби, и в ее голосе сквозь усталость пробилась настоящая радость.
Амос с Праксом вошли в шлюз и поставили тележки у стены, а Бобби осталась снаружи. Пракс проверил индикаторы перевозочных клеток. Воздуха должно было хватить еще на сорок минут.
— Давай, — скомандовал Амос, — мы готовы.
— Включаю аварийный сброс, — отозвалась Бобби, и бронированный скафандр распался. Странное было зрелище: жесткие слои броневых пластин раскрывались, как лепестки цветка, и опадали, обнажая застывшую с закрытыми глазами и открытым ртом женщину. Когда она протянула к Амосу руку, Пракс вспомнил, как подалась к нему из клетки Мэй.
— Давай, док, — сказал Амос.
— Шлюзование, — ответил Пракс.
Он закрыл наружный люк и пустил в камеру свежий воздух. Через десять секунд грудь Бобби заходила ходуном. Через тридцать секунд давление достигло семи восьмых атмосферного.
— Как наши дела, ребята? — спросила Наоми, пока Пракс открывал клетки.
Дети еще спали. Мэй по младенческой привычке засунула в рот два пальца. Пракс опять заметил, как она повзрослела.
— Дела в порядке, — ответил Амос. — Предлагаю убраться отсюда на хрен и застеклить весь шарик.
— Отнюдь не херовое предложение, — поддержала по другому каналу Авасарала.
— Принято, — согласилась и Наоми. — Мы к взлету готовы. Дайте знать, когда устроите новых пассажиров.
Пракс стащил с головы шлем и сел рядом с Бобби. Она, в черной чешуе трико, словно сейчас вышла со спортивной тренировки. Но ему было все равно, кто рядом с ним.
— Рада, что ты вернул дочку, — сказала она.
— Спасибо. Жаль, что ты потеряла скафандр, — сказал он.
Бобби пожала плечами.
— От него все равно один вид остался.
— Шлюзование закончено, Наоми, — сказал Амос. — Мы дома.
— Мы теперь все друзья, — сказал Соутер. Разговор без временного лага был удовольствием, в котором Авасарала не стала себе отказывать. — Если малость примнем свои острые углы, друзьями и останемся. Думаю, и нам и им понадобится не один год, чтобы вернуть флоты к прежнему состоянию.
— А дети?
— Ими занимаются. Мой старший медик держит связь со специалистами по детским иммунным заболеваниям. Осталось только найти их родителей и разослать всех по домам.
— Хорошо, — кивнула Авасарала, — это я и хотела услышать. А те?
Соутер кивнул. При низкой силе тяжести он выглядел моложе. Как и она. Кожа не обвисала, и представлялось возможным увидеть, каким он был в юности.