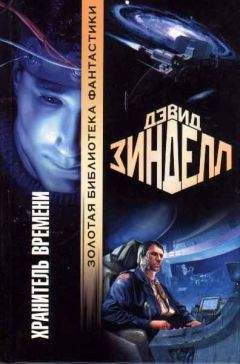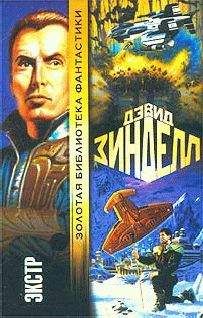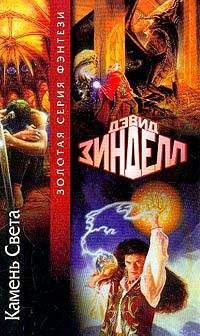ты ее называешь. Ты прислушивался к ним больше, чем подобает человеку, так ведь?
Я никогда не слышал прежде, чтобы Соли так философствовал, поэтому позволил ему продолжать.
— Свобода воли! Ты когда-нибудь задумывался над этим термином, в том смысле, в каком употребляют его фраваши? Это же оксюморон, столь же противоречивый, как «жизнерадостный пессимист» или «счастливая судьба». Если вселенная жива и обладает сознанием, как веришь ты, если она движется… если у нее есть какая-то цель, то мы все рабы, ибо она двигает нас к этой цели, как шахматные фигуры. И нам неведомо, в чем заключается игра. Так где же тут свобода? Хорошо толковать об ананке, о слиянии наших индивидуальных воль с высшей волей — ты ведь в это веришь? — но для человека ананке означает ненависть, несчастную любовь, отчаяние и смерть.
— Нет. Ты все не так понимаешь.
Он выплюнул мелкий хрящик на утоптанный снежный пол.
— Так просвети меня.
— Мы свободны лишь как часть целого, а не абсолют. Свободны в известных пределах. В конечном счете наши индивидуальные воли действительно составляют часть воли вселенной.
— И ты в это веришь?
— Так учат фраваши.
— В чем же она, воля вселенной? — спросил он, бросая пригоршню снега в кофейник.
Метель забрасывала хижину снегом, в щели единственной незаметенной, северной стены сочился серый свет.
— Не знаю, — ответил я.
— Но думаешь, что это когда-нибудь откроется тебе?
— Не знаю.
— Весьма самонадеянная мысль, тебе не кажется?
— Зачем же еще мы здесь? Открытие или созидание — в конечном счете это одно и то же.
— Действительно, зачем мы здесь? Вот кардинальный, хотя и банальный вопрос. Мы здесь для того, чтобы страдать и умирать. Мы здесь потому, что мы здесь.
— А вот это уже чистой воды нигилизм.
— Как ты самонадеян. — Он закрыл глаза и скрипнул зубами, как будто во сне. — Полагаешь, для тебя есть какой-то выход?
— Не знаю.
— Так вот, никакого выхода нет. Жизнь — это ловушка, каким бы ни был твой жизненный уровень. Серия все более хитрых ловушек. Хранитель прав: жизнь — это ад.
— Мы сами творим свой ад.
Он соскочил с лежанки. Он стоял голый на снегу. Под кожей выделялись длинные плоские мускулы, точно намотанные на деревянный каркас ремни. Тонкая тень легла на закругленные белые стены.
— Половину своего ада создал я, а другую половину создал для меня ты.
Я, разрумянившись в тепле хижины, ответил насмешливо:
— Наследственность — это судьба.
— Будь ты проклят!
— Свой рай мы тоже творим сами. Мы сами себя творим.
— Нет уж. Поздно.
— Поздно никогда не бывает.
— А для меня вот поздно. — Он втер немного жира в обрубки своих пальцев. — Самоуверенность, везде самоуверенность — вот от чего мне тошно. Но ничего, скоро этому придет конец. — Он бросил на меня взгляд, где к обиде и ненависти примешивалось уважение. — Во всем племени деваки нет никого, кто устал или стыдится быть человеком, кто хочет быть выше того, что он есть. Вот почему я никогда не вернусь в Город.
В ту ночь мне приснилось будущее — Соли и мое. Скраерский сон длился до рассвета, потом я выпил кофе и скраировал еще половину вьюжного дня. Мне хотелось показать Соли то, что я видел, объяснить, что жизнь не ловушка — во всяком случае, не больше, чем та, которую мы строим из своих заостренных костей и тугих жил своих сердец. Мне хотелось объяснить ему простейшую из вещей. Вместо этого я встал и начал одеваться, сказав:
— Метель скоро утихнет. Еще до ночи.
Соли сидел, закутавшись в меха, и приделывал к своему копью новый наконечник (старый обломился, застряв в стенке трещины). Он посмотрел на меня с отвращением, которое всегда питал к скраерам, и промолчал.
— Хранитель близко, — продолжал я. — В пятнадцати милях к северо-западу. Три его собаки больны и лежат в хижине, и аклия, которую он вскроет сегодня, окажется пуста.
— Скраерский треп.
— Если ехать всю ночь, утром мы застанем его врасплох.
— Если мы поедем ночью, то провалимся в первую же трещину.
Я стал кроить из нерпичьей шкуры сапожки для собак.
— Нет. Я знаю, где расположены трещины.
— В темноте мы будем ездить по кругу.
— Нет. Ночь будет звездная. Найдем дорогу по звездам.
Он улыбнулся при упоминании этого старинного способа и кивнул.
— Ладно, пилот, — будем держать путь по звездам, если они выглянут.
Когда стемнело, ветер дул с севера, унося остатки теплого воздуха и снежные клубы. Стало очень холодно, и на небо, черное, как одежда пилота, высыпали звезды. На севере горела Шонаблинка, на западе высоко над горизонтом мигал шестиугольник Фравашийского Кольца. Мы погнали нарты на северо-запад по шелковистому новому снегу. Собаки, наверное, думали, что мы рехнулись, заставляя их тащиться ночью по грудь в снегу и огибать опасные трещины. Среди ночи ударил жестокий мороз. Воздух стал как замороженный кислород, и губы у меня так застыли, что я не мог ни свистеть, ни говорить. Мы молча ехали по льду, каждую складку и впадину которого я видел в своем скраерском сне. Трещины нам не попадались. Остановились мы только однажды — вскипятить воду для кофе. Я не сводил глаз со звездного неба и с горизонта. В предутреннем сумраке я увидел крошечный снежный бугорок на огромном белом бугре планеты.
— Вон она, хижина Хранителя, — показал я. — Видишь?
— Вижу. Ты был прав.
Он свистнул Кури — я снова подивился его мелодичному свисту, его умению обращаться с собаками, — и мы двинулись против ветра по занесенному снегом морю.
Когда фраваши стали мыслящим народом, Темный Бог спустился со звезд и спросил Первого Наименьшего Отца Алмазного Клана Мозгопевцов:
— Скажи, Первый Наименьший Отец, — если я пообещаю через десять миллионов лет открыть тебе секрет вселенной, ты согласишься послушать мою песню?
Первый Наименьший Отец, жаждавший вкусить новой музыки, ответил:
— Наполни мои слуховые каналы; пропой мне свою песню.
И Темный Бог запел, и прошло десять миллионов лет; Алмазный Клан Мозгопевцов воевал с Кланом Верных Мыслеигроков и с другими кланами, и все это время во всей Фравашии звучала только эта одна страшная песня.
В конце срока Темный Бог открыл Первому Наименьшему Отцу секрет вселенной, и Первый Наименьший отец сказал:
— Я ничего не понял.
Тогда Темный Бог засмеялся и сказал:
— Как же ты надеялся это понять? Ведь твой мозг за эти десять миллионов лет совсем не изменился.
Первый Наименьший Отец поразмыслил над этими словами и пропел: