Энно подняла большой ком начесанного молочного пуха, и Шахез услужливо подставила ей горловину длиннющего двустороннего мешка.
Энно запихнула шерсть в мешок. Шахез тронула ее за руки.
Склонясь над полупустым мешком, они держались за руки, и Шахез сказала:
– Я хочу…
– Да, да! – подхватила Энно.
Ни одна из них не имела большого опыта в любви. Ни одна не получала такое уж большое удовольствие от секса. Энно, когда еще девчонкой по имени Акал жила на ферме, имела несчастье влюбиться в мужчину, который испытывал неодолимую тягу к жестокости. Когда она в конце концов поняла, что не обязана сносить то, что он вытворяет с ней, то попросту сбежала и нашла себе прибежище в школе в Асте. Там ей подыскали работу и учебу по вкусу, она занялась духовной самодисциплиной, а позже пристрастилась к бродячему образу жизни. Двадцать лет странствовала без семьи и привязанностей. А вот теперь страсть, вспыхнувшая между ней и Шахез, приоткрыла ей неведомую дотоле духовность плоти – откровение, разом изменившее мир вокруг. У Энно возникло чувство, что только теперь она начинает жить в нем по-настоящему.
Что до Шахез, то та крайне мало придавала значения любви и ненамного более сексу, за исключением разве что вопросов, связанных с составлением брачного контракта. Брак являлся для нее неотложной деловой необходимостью. Шахез уже исполнилось тридцать лет. На ферме Данро не было полного седорету, не было беременной женщины и проживал всего лишь один ребенок. Ее долг был ей ясен. Она наносила мрачные вынужденные визиты на несколько ферм в округе, где проживали Утренние мужчины. Шахез проморгала мужчину с фермы Беха, который успел смыться на пару с кем-то снизу. Вдовец с Верхнего Кед’да был как будто вполне приемлемым вариантом, однако возрастом под шестьдесят и с запашком, как из нужника. Шахез пыталась убедить себя в преимуществах брака со сводным кузеном дядюшки Мики с фермы Окба, что вниз по реке, однако желание этого претендента разделить ее собственность на двоих было, очевидно, единственным побуждением к браку с ней, к тому же он был ленив и беспомощен даже более, чем сам дядюшка Мика.
С юных лет Шахез время от времени встречалась с Темли, Вечерней дочерью с ближайшей фермы Кед’дин, что находилась сразу за перевалом Фаррен. Их интимная связь приносила обеим одну только радость, и они хотели бы сделать ее постоянной. То и дело, лежа в кровати Шахез в Данро или в кровати Темли в Кед’дине, подруги заводили разговор о браке, о составлении седорету. Не было никакой нужды обращаться к деревенским сводникам – они и сами знали всех, кого те могли предложить. Одного за другим подруги перебирали мужчин, проживающих в долине Оро, и очень немногих, кого знали за ее пределами, и один за другим отвергали все варианты как неосуществимые или неприемлемые. Единственное имя, что всегда оставалось в их списке, – Оторра, Утренний мужчина, который работал на перечесе в самой деревне. Шахез нравилась его репутация усердного труженика, Темли же нравились его игривые взгляды и прибаутки. Оторре, очевидно, тоже нравилось, как поглядывает на него Темли томным взглядом и как отвечает на его заигрывания, и он наверняка бы уже посватался, будь хоть какой-то шанс на женитьбу в Кед’дине. Однако это была слишком уж бедная ферма, да еще с тем же изъяном, что и в Данро: отсутствием подходящего Вечернего мужчины. Для составления седорету Шахез с Темли должны были включить в контракт, кроме Оторры, либо бесполезного лодыря из Окбы, либо прокисшего вдовца из Кед’да. Мысль делить с кем-то из них ферму и спальное ложе вызывала у Шахез отвращение.
– Если бы только встретить мужчину себе под пару! – горестно восклицала она.
– Еще вопрос, приглянется ли он тебе, – отвечала Темли.
– Надеюсь, что да.
– Может, будущей осенью в Манебо…
Шахез вздыхала. Каждую осень она с караваном вьючных йам, груженных шкурами и шерстью, отправлялась за шестьдесят километров на ярмарку в Манебо и выискивала там себе мужчину. Но те, на кого ей хотелось обратить взгляд повторно, отводили глаза в сторону. Несмотря на то что ферма Данро обещала вполне стабильный доход, никому не хотелось навсегда забираться туда, на «крышу мира», как называли люди эту ферму. Шахез не располагала арсеналом иных женских завлекалочек для мужчин. Тяжкий труд, суровый климат и привычка командовать огрубили ее; одиночество вселило в ее сердце робость. Среди общительных, острых на язык покупателей и продавцов в Манебо Шахез чувствовала себя подобно пугливой лани. Прошедшей осенью она снова спускалась на ярмарку и снова вернулась к себе в горы раздраженная и разочарованная и сказала Темли: «Мне было бы противно иметь дело с любым из них».
Энно проснулась в звенящей тишине горной ночи. Перед глазами светилось звездами небольшое оконце, а под боком теплое тело Шахез сотрясалось от сдавленных рыданий.
– Что с тобой? Что случилось, любовь моя?
– Ты должна уходить! Ты непременно покинешь меня!
– Но ведь не сейчас… Не так скоро.
– Ты не сможешь остаться. У тебя есть призвание. Отве… – Она захлебнулась слезами. – Ответственность перед школой, твоя работа, и я не смогу удержать тебя. Я не могу отдать тебе ферму. У меня нет ничего, что я могла бы дать тебе. Вообще ничего!
Энно – или Акал, как она сама, возвращаясь к своему исконному детскому имени, просила Шахез называть ее, когда они оставались наедине, – прекрасно знала, что подруга имеет в виду. Владелец фермы должен был обеспечить преемственность. Шахез, обязанная жизнью своим предкам, имела точно такой же долг и перед потомками. Акал не задавала вопросов об этом – она сама родилась и выросла на ферме. С тех пор в школе она изучила радости и обязательства души, а вместе с Шахез познала радости и обязательства любви. Но ни одно из них не отменяло священного фермерского долга. Шахез могла не рожать детей сама, но обязана была позаботиться, чтобы в Данро зазвенели детские голоса. Если бы Темли с Оторрой заключили Вечерний брак, от него могли бы родиться дети для Данро. Но в седорету нужен ведь еще и Утренний брак – для этого Шахез предстояло отыскать себе Вечернего мужа. Она была не вправе удерживать Акал в Данро, равно как не было оправдания и в затянувшемся пребывании самой Акал на ферме, ибо ее призванием и судьбой стал Путь. Оставаясь здесь в качестве любовницы, она пренебрегала своим религиозным долгом, равно как и затрудняла Шахез исполнение ее обязательств как хозяйки землевладения. Шахез сказала чистую правду: Акал давно пора было уходить.
Выскользнув из-под одеял, Акал подошла к окну. Поеживаясь, она стояла обнаженная при свете звезд, которые подмигивали ей и снова сияли над крутыми серыми склонами. Она должна была уходить и не могла уйти. Жизнь была здесь, в теле Шахез, в ее грудях, губах, в ее дыхании. Акал отыскала жизнь и не в силах была теперь снизойти к смерти. Она не могла уйти и должна была уходить.


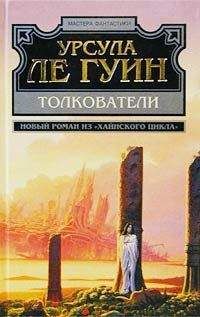

![Rick Page - Make Winning a Habit [с таблицами]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)