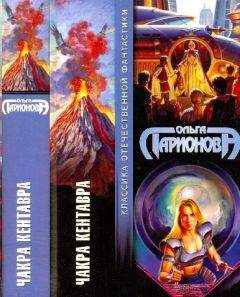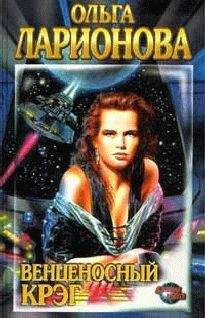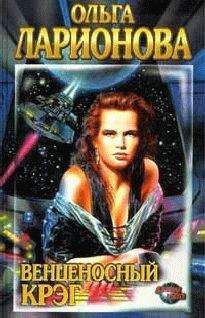— Вижу я, что смурной ты стал, вечерами молчишь все — приучила тебя Мадинька лясы‑то точить, вот и решила я перед нею повиниться, что кружала ее разбила, на вечерний уголек к нам зазвать. Подстерегла в проулочке. А она… Она говорит, берегусь теперь далеко ходить, в тягости я! Слыхал — это она‑то!
— А что она — не девка, что ли?
— Девка, да замужняя! За стар–старым! Да за таким старым, что ежели он на снег–леденец малую нужду справит, то и снег не потает! Так что Шелуда пестуна своего шибко уважил, даром что глазами своими масляными все Мадиньку оглаживал…
— Ты что, дура, мелешь?!
— А чего такого? Или, скажешь, дух ветряной с озера прилетел? Или птенчик ее пуховый не в то место клюнул? Или Солнечный Страж на нее меч свой нацелил?..
— Кончай языком трепать! Устал я от трескотни твоей бабьей, лучше уж у аманта в дому ночевать.
— Уи–и-и…
Сейчас прямо уйти, что ли? А хоть бы и так.
Сдернул плащ с сучка, выскочил вон. В наступившей уже темноте кого‑то сшиб с ног, и с истошным клекотом понеслась вдоль по проулочку ополоумевшая со страху и, несомненно, ворованная курица. В другое время Харр поржал бы над мазуриком незадачливым, а птичку догнал и, шею свернув, Махиде презентовал — не пропадать же добру. Но сейчас ему было не до смеху и тем более не до птички, на вертеле жаренной, хотя и допустил он оплошку — в сердцах покинул теплый дом, не повечеряв. Но уж очень круто его забрало; никогда такого сраму не бывало, чтоб девка малая его провела, а тут — здрасьте! Отцом объявила. А с какого такого перепугу при первой встрече шарахнулась, твердила все “не знаю, ничего не знаю…” И теперь к себе не подпускает, хотя и куре этой полоумной ясно: где уж раз, там и другой, и третий…
Миновал ворота, гаркнув па стражей, которые было его не признали, потопал по улочкам к дому своему башенному. Чуть было в темноте не заплутался, но объявилась голубенькая пирлюшка, полетела впереди, и он ей поверил. Не зря, естественно; мигом привела к незапертой двери (тоже непорядок, завтра наказать телесу, чтоб запоры снаружи и изнутри были самые крепчайшие) и даже внутрь влетела, уж чересчур по–хозяйски. Раскрыл рот, чтобы и ее облаять, но подумалось: вдвоем будет не так тоскливо. Забрался наверх, бросил плащ на пыльный пол и растянулся. Поди, не караванник трехстоялый, и не в таких условиях ночевать приходилось.
Но сон не шел на обиду неутоленную. Все путем, как говаривал Дяхон. Шелуда хоть и кругл, да мордой смазлив и всегда под рукой. А сам он? Говорил же Иддс по–дружески: урод ты.
Со всех сторон урод.
И что его на всех дорогах тихрианских бабы привечали?
Как в смурной тоске заснул, так и проснулся. Встряхнул плащ, потопал по негнущимся зелененым ступенькам вниз. Надо завернуть в амантов дом, распорядиться насчет рухлядишки… Сама собой рука стукнула в рокотанов ставень. Шелуда открыл степенно, неторопливо и, как показалось, нагло. Ни слова не сказав, повел в жилокрутную горницу, ступал как гусак, выворачивая ступни наружу. Харр едва сдерживался, чтобы не влепить ему белым нездешним сапогом в жирный зад, по сдержался — побрезговал.
Мади встретила его тихо и нетрепетно, точеную руку воздела, указывая на протянутые, точно струны рокотапа, двойной оплетки жилы, — мол, которые срезать велишь?
— Еще два десятка заказываю, но покрепче, — бросил он через плечо Шелуде. — Принеси сырье, выберу.
Шелуда, недовольно надувшись — хотя куда же круглее? — зашлепал прочь. Сейчас дедка кликнет. Харр даже не шагнул ближе, только криво усмехнулся (и сразу понял — ухмылочка‑то вышла прежалкая), коротко бросил, сберегая каждый миг, отведенный им на этот разговор, как он сам себе положил, последний.
— Что, Шелуду приветила? А лгала зачем?
Она и отвечать не стала — глядела спокойно, как облачко в озерную воду, и все.
— От кого?.. — прохрипел он и оборвал себя, потому как почудилось — хриплый его полушепот разносится по всему дому. — Скажи: Шелудин кутенок — повернусь и уйду, не увидишь и не услышишь…
— Уйди, господин мой, и позабудь меня. И я забуду. Одно только и буду помнить: сына мне бог твой послал.
И она поклонилась — гибко, все еще по–девичьи.
— Выкрутилась, — зло процедил по–Харрада. — Не обессудь, родишь — все‑таки приду поглядеть, в чью масть сыпок пойдет. Не укроешь.
— Золотым он будет, как солнышко земли твоей, о котором ты столько сказывал. Для того гляжу я на платок золотой с утра до вечера, и ночью со мной он, — она разжала кулачок, и с ладошки заструилась полупрозрачная янтарная ткань — ну чисто луч солнечный. — Золотым он будет, и имя ему золотое: Эзерис, что значит…
Шлеп–шлеп — вкатился Шелуда.
Харр потыкал во что‑то пальцем, назвал цену какую‑то совсем несуразную, круто развернулся на каблуке и вылетел вон.
Эзерис, значит.
А что значит?
К аманту пришел — все из рук валилось.
— Не выспался? — полюбопытствовал Иддс. — Я за тобой посылал — девка твоя открестилась: не ночевал, мол.
— А я ей не подотчетный, — буркнул Харр. — Девок мало, что ли…
— Верно, — хлопнул себя по колену амант. — Тем более что нам с тобой сейчас не до них будет.
Харр постараются изобразить на лице своем готовность к подвигам — как ратным, так и трудовым.
— Луков нагнуть — дело нехитрое, сучьев в лесу вдосталь, — продолжал амант. — А вот с наконечниками для стрел придется туго. Кузня у нас одна, да и та плохонькая, все больше бабью утварь ломаную правит. Для стражей железа покупаем, сам за тем ходил, знаешь. Чтоб новое ковать, надо откуда‑то караваи железные получить. В Серый стан больше нельзя, а кроме него, только в Огневой Пади железо из руды вытапливают.
— Опять с караваном пошлешь? — без малейшего энтузиазма предположил Харр.
— Не получится. Караванщики поиздержались, до конца лета отдыхать будут. Дорога в Огневище нелегкая. Да и снаряжать караван решают все три аманта, скопом. Что я Лесовому наплету? Он же знает, что железа у меня накуплены. Нет. Пойдешь ты один, вроде как странник или еще того похлеще — подкоряжник, решивший до стана теплого податься. Дом купецкого старейшины я тебе опишу, знак у тебя уже имеется. Поговоришь с ним тайно, подобьешь караван к нам снарядить — аманты ведь с купецкой подначки решение принимают. А в поклажу пусть хлебы железные возьмут, да никому иному, только мне, и без огласки. Понял?
— Что не понять! А чем дорога‑то опасна?
— До самых дымов ничего не бойся, а как дымы увидишь — ступай по самому ручью, неглубокий он в верховье‑то. Ноги замочишь, зато в ловушку не попадешь. Их вкруг стана нарыто видимо–невидимо, угодишь — сгниешь заживо.