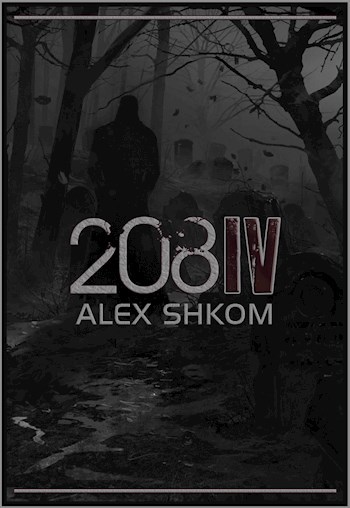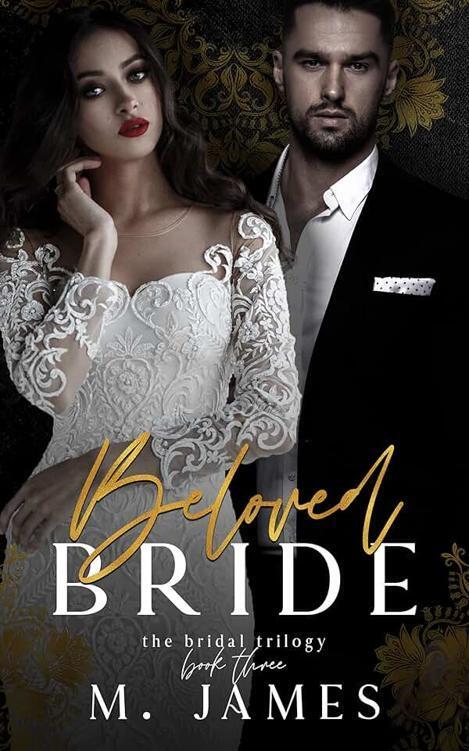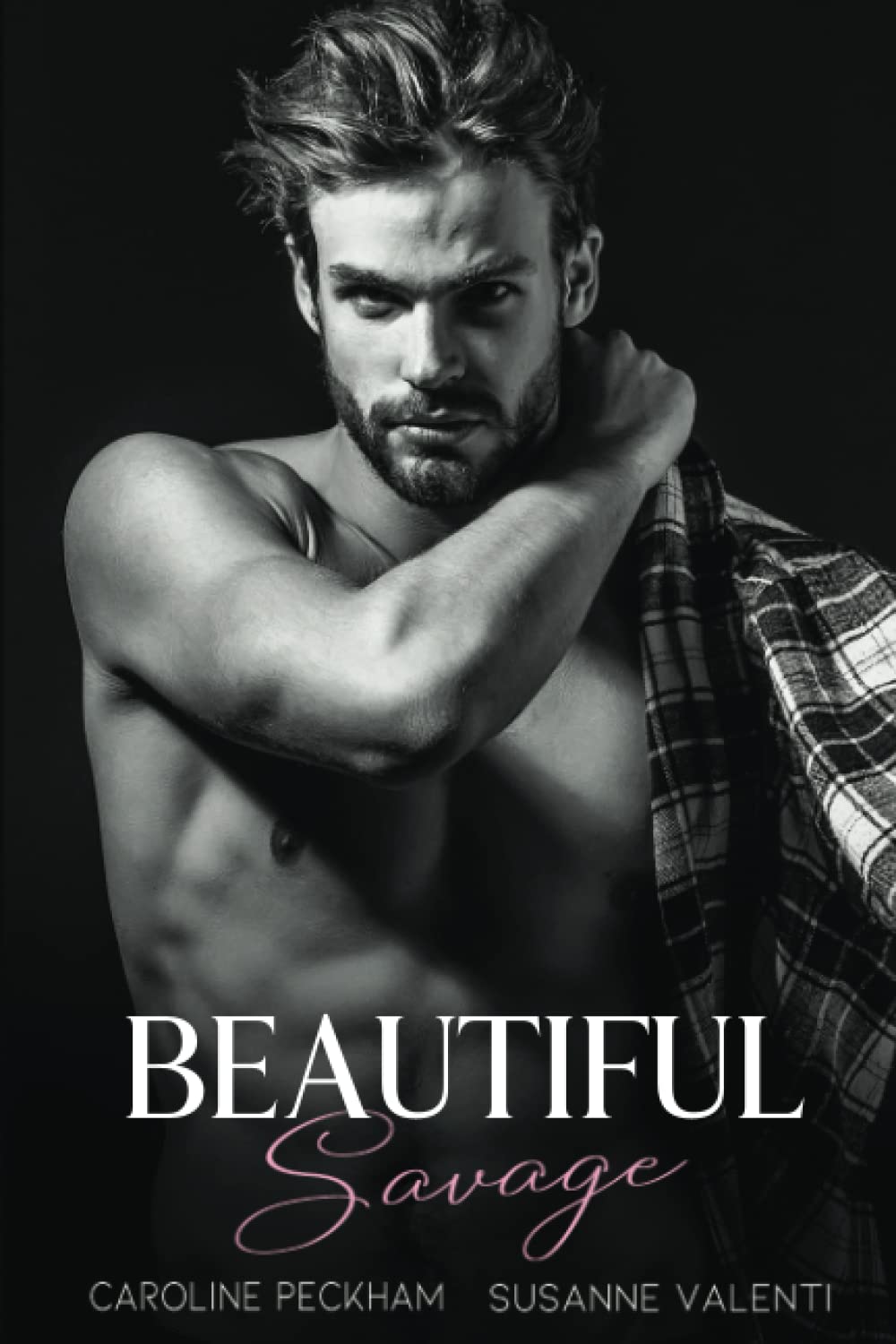находится в тюрьме — сторожит камеры и останется там, насколько мне известно, на целый день. Лучшая возможность убить его — попасть в камеру и заманить к себе. Нет, у тебя вряд ли получится просто пробраться в участок без свидетелей. Будет проще, если ты попадёшь туда под видом пьяницы или ещё кого-нибудь — дело твоё. Но не смей судить меня и моё методы — я делаю то, что считаю правильным.
— Мда… Это место и люди совсем не меняются, — наёмник взял ампулу и шприц, заблаговременно припрятанный в шкатулке, и направился к выходу. — Жаль, что лучший пример этого не видит даже себя в упор.
— Если у тебя есть немного времени, я смогу тебе рассказать, почему всё именно так. А заодно, быть может, смогу объяснить, почему всё не так, как ты считаешь.
— Время для грустных историй из прошлого? Знаешь, — отходя от двери, шепнул Хан, — я могу быть больно любопытным для наёмника, но и ты больно болтлив для человека с тайнами.
— А что мне с того, что я расскажу тебе хоть что-нибудь? Думаешь, это будет иметь какую-то ценность? Ты пришёл, ты исчезнешь, а вот здешние люди останутся — им я многого не могу доверить по-настоящему или так, как я это вижу. Да и, к тому же, если какая-то правда и всплывёт… я буду прекрасно знать, какой из седых псов войны в плаще стоит за этим. Всё проще, чем тебе кажется. Всегда. Так ты будешь слушать?
Наёмник утвердительно кивнул и, придержав плащ, уселся на стул возле лампы. «Я слушаю» — говорила нависшая в комнате тишина.
— Этот дом… когда-то принадлежал одной семье: мать и отец примерно моего возраста, старшая сестра — красивая, как сам дьявол, брат и младшая. Чтобы хоть как-то подзаработать во время присмотра за ребёнком, мать предложила сдавать пару комнат. Все согласились — в тесноте, да не в обиде. Приезжих в те дни было немного, но им хватало, да и уютом их дом обладал просто нечеловеческим. И вот, в один из таких дней к ним заселился некто — женщина тридцати лет, которая вечно хотела спать и жаловалась на слишком шумных людей за окном… — мужчина опустил глаза и уставился в пол. — Это — последнее, что я от них слышал — в ту неделю меня отправили командующим в канал — города я не видел.
«Так ты ещё и управлял всё той бойней, — пронеслось в голове охотника. — Ублюдок».
— А по приезду… по приезду, меня не захотели пускать внутрь. Соседи… здоровые, мать его, мужики с топорами и вилами ссались под себя, потому что слышали крик, — голос его начинал дрожать. — Им было плевать на то, что там живёт многодетная семья, чтобы спасти которую, достаточно было бы просто убить одну сонливую дуру! Но нет! И я… я заставил их пойти со мной — навёл пистолет и пригрозил повесить точно так же, как и тогда, потому что это было необходимо. Потому что цель оправдывала средства, — наёмник зло улыбнулся в спину рассказчику. — Я оказался внутри. Зашёл через то самое окно с двумя трясущимися олухами, прошёл по той самой тропинке… Знаешь, что я видел? Я видел кровавые разводы, разбросанную мебель и побитые стёкла там, где ещё вчера мечтал оказаться… Где ещё миг назад хотел быть. Но самое страшное… Самое страшное было в том, что заразилась почти вся семья — мать, отец, брат, Клара… Осталась только одна душа там — маленькая младшая сестрёнка. Ей тогда было пять. Пять лет, наёмник! Она заперлась здесь — в этой комнате. Как ты думаешь, легко ребёнку понять то, что вся её семья больше никогда не вернётся в мир живых, потому что кто-то просто испугался?! Что её жизнь может оборваться не из-за того, что никто не слышит, а потому что всем плевать?! Нет, конечно, нет…
Он повернул голову на секунду, и старик очень легко смог заметить пылающую ярость в его слепом глазу. Одно из жутких ощущений, которые приходилось испытывать за всю жизнь Уильяму — когда человек, обременённый ненавистью, забывал обо всём, включая собственные лишения. То случилось впервые тогда, когда одна женщина, не сумевшая договорится о цене, попыталась дать ему пощёчину отсуствующей рукой.
— Она пыталась говорить с ними… Пыталась достучаться… Но они давным-давно одичали, и единственное, что могли выговорить — рык. И говорили. Все они. Вся семья поднялась по этой чёртовой лестнице, соскребая от голода краску, и билась в эту чёртову дверь — к маленькой пятилетней девочке. Они выли, рычали, стонали, вопили… И это длилось днями. Знаешь, что в конце концов предприняла девочка? — он усмехнулся. — В тот момент, когда два тех ссыкла убежали от одной этой картины, наплевав на мои угрозы… Я видел эту семью. Мертвую, иссохшую от голода, разваливающуюся на части далеко не от разных ранений… родную мне семью. Я достал пистолет. Ты когда-нибудь стрелял двенадцатилетнего парнишку, который даже убить тебя пытается с улыбкой?! Уверен, что нет. Я пристрелил отца и мать семейства точно в голову, отдавая им дань уважения за прекрасную семью, за прекрасных людей, но потом… Потом осталась она… Клара. И я не смог. Она подошла так близко… Бледная, холодная. Даже тогда, я видел в её глазах это… Я видел жизнь, наёмник. Я до сих пор боюсь этих… Боюсь, что в тот момент, когда я сжал её горло… когда… а если ей просто не хватило дыхания? Не хватило одного вздоха, чтобы шепнуть «помоги мне»? Я бы услышал… Клянусь, я бы услышал… Как ты не боишься этого? Этих глаз? Как?
— Дело привычки, — тихо ответил тот и тут же подумал: «Никак — я боюсь».
— Не нужно было отпускать её… Не нужно было уходить в ту неделю… Но, как всегда, ничего нельзя уже было поделать. Она упала на пол и потянула руки к моим глазам… а её брат, который оказался более живучим, вцепился мне в ногу. Я так и не понял, чего же было больше — слёз или крови… И знаешь, что странно? Всякий раз, когда я вспоминаю об этом, мои шрамы не болят… Болит здесь, — Воланд незаметным движением коснулся своей груди, — где-то глубоко внутри. Сжимается и мешает мне дышать. В какой-то миг я ведь был готов умереть… Я хотел этого — хотел стать частью