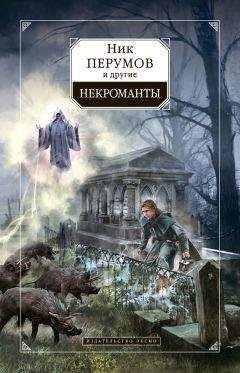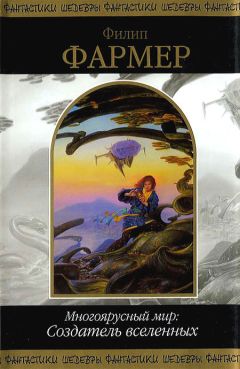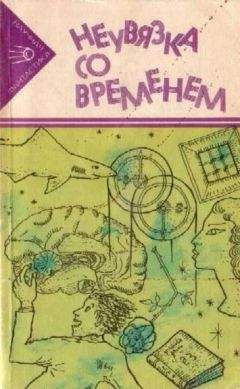Агата посмотрела на первую. Та вздохнула, опуская глаза. На вторую. Та остановилась, покачала головой.
Несколько секунд Агата не двигалась, затем вышла из здания во двор. Слово выбралось из забытой сумки и поскакало за ней.
В самом заброшенном углу больничного садика Агата застыла, лицо было мокрым от падающих сверху капель. Она опустилась на колени, свернулась в маленький холмик. Задышала часто-часто, словно вокруг нее внезапно исчез воздух. И вдруг… вскинула голову к небу и закричала. Беззвучно, неслышно, на едином бесконечном выдохе.
– А‑а-а-а‑а!
Живчик прильнул к ней всем телом, пушистая шерстка намокла, обвисая желтыми сосульками.
Агата кричала. Она кричала, пока этот выдох не закончился. А потом, упираясь ладонями в землю, села прямо на влажную траву и привалилась к ограде. Слово прижалось к ней сильнее.
«Тик-так», – предупредили где-то в здании больничные часы.
– Кого? – спросила женщина, еле шевельнув губами, будто с трудом проталкивая звуки через горло. – Кого, Живчик? Марека? У него семья и дочь. Но Итон тоже… – Она перевела взгляд на слово. – Я не могу, Живчик. Я не могу выбрать. Не потому что не имею права. Просто… не могу.
Слово забралось к ней на колени, встало на задние лапки, передние приложило к левой стороне груди Агаты, там, где билось сердце. Указало носом на госпиталь, потом на небо.
Женщина свела брови.
– Что ты говоришь? Я не понимаю.
Глагол повторил еще раз.
– Все мы – слова… – прошептала Агата, чуть отстраняясь от Живчика. – Ты… сделаешь так, чтобы я смогла стать словом, понятием?
Живчик опустил и тут же вскинул головенку.
– Но… как?
Глагол опять коснулся ее, и женщина, словно теряя сознание, рухнула в себя, как в омут. Она ощутила.
Душа. Ее душа. Произнесенное когда-то в незапамятные времена слово. Метафизическая лексика. Материальное – лишь оболочка. Она может стать словом. Любым, каким захочет. Она сама творит себя. И всегда творила. Каждый день, каждый миг.
Но сейчас, с помощью крошечного глагола, она сама станет глаголом. И тогда у них будет шанс. У них обоих. Жить… Жить… Жить…
Толчок, вспышка. Возвращение в реальный мир. Открытые глаза. Агата взяла Живчика на руки, нежно поцеловала в холодный нос и поднялась на ноги.
– Тогда пойдем, мой хороший.
* * *
– Джереми! Джер, ты слышал?!
Рыжеволосый мальчишка повернулся к перелезавшему через забор Фреду.
– Чего слышал?
– Что завтра сын мистера Тадеуша приезжает. И с ним этот, ну журналист. А мисс Линделл, сказали, пропала без вести, и ее теперь полиция ищет.
Джереми снисходительно пожал плечами.
– Да все я знаю. Я еще первее тебя узнал! Вообще вчера.
Он отвернулся, вскрыл бутылку с молоком и принялся наливать его в блюдечки. Из кустов тут же высунулось несколько любопытных мордочек. Среди привычных сереньких и черно-белых показалась ярко-голубая с оранжевыми полосками.
– О! Второй Мандарин! Ты нашелся? – обрадовался мальчишка и поцокал языком, подзывая остальные слова. – Идите, идите. Я теперь буду вас кормить, пока Агата не вернется.
Ирина Черкашина
Берега неведомых земель
То, что Ноэль умер, первой обнаружила хозяйка кафе, армянка Урсула.
– Я перед ним поставила кружку, – рассказывала она потом Полковнику, промокая уголком накрахмаленного передника свои прекрасные карие глаза. – Спрашиваю, как дела, а он молчит. Он хоть и не любил болтать, дядя Ноэль, но на вопросы всегда отвечал… А тут молчит и не шевелится. Я и поняла, что дело плохо. Ой, несчастье, ой, вишьт, Господь милосердный…
Урсула, как всегда в минуты сильного душевного волнения, мешала русские слова с армянскими.
– Не плачь, сиракан, – сказал Полковник, утешающе похлопывая её по полному плечу. – Здесь слезами не поможешь. «Скорую» вызвала?
– Н-нет…
– Ну, ну, – Полковник слегка её обнял и тут же отпустил. – Мы сами тогда. Иди на кухню, а мы пока побудем. С ним.
Всё ещё всхлипывая и слегка пошатываясь, Урсула пошла к стойке. Они остались втроём: Полковник, Лазарь Моисеевич и Клархен. И ещё Ноэль, безучастно горбившийся за столиком в углу, куда он сел утром, уже будучи мёртвым. По привычке, надо думать, пришёл и сел. Для большинства посетителей «Морской ведьмы» час был ещё слишком ранний, с утра здесь собирались только те, кому больше нечем было заняться. В кафе стояла непривычная тишина, телевизор не работал. Снаружи доносился шум проезжавших машин да смутный гул далёкого прибоя: на море сегодня штормило. Утреннее солнце просвечивало пыльное стекло на входной двери и трепещущие под ветром красно-белые полосатые маркизы. «Хорошо, что кроме нас больше никого нет», – подумал Полковник. Хотя, учитывая род занятий завсегдатаев кафе, один бродячий покойник здесь вряд ли кого-то сильно бы испугал.
– Жаль Ноэля, – Полковник пожевал губами и машинально пригладил коротко стриженную и совершенно седую макушку. – Кто бы мог подумать, что с ним так всё обернётся…
– И таки что теперь нам делать? – Лазарь Моисеевич изящно развёл руками. Он был похож на старого ироничного ворона – ворона, много лет прослужившего в цирке и много повидавшего. Да почти так оно и было. – «Скорую» вызывать? Так в морг его не возьмут. Он же оттуда уйдёт, как Моисей из Египта, я извиняюсь. Его сейчас только упокаивать…
– Только упокаивать, – согласилась Клархен, нервно поправляя складки на своих многочисленных юбках. – Брр… Бедный Ноэль!
«Как ей идёт розовая роза в волосах», – подумал Полковник. У любой другой женщины в возрасте за шестьдесят такая роза смотрелась бы нелепо, но Клархен она только украшала. Как и пышные, почти цыганские юбки, и серебряные перстни на тонких смуглых пальцах, и круглые джонленноновские очки, из-за которых она всегда казалась немного удивлённой. Клархен – она такая одна…
Он знал, что молодые девчонки, приходившие в это кафе, хихикают над её внешним видом, и в то же время невольно копируют её манеру одеваться, осанку и интонации. Клара как-никак легенда местного магического сообщества – маг-словесник высочайшего уровня, автор научных статей и книг, преподаватель местного университета. То ли по капризу судьбы, то ли по собственной воле она так и не уехала из родного города, хотя вполне могла бы работать в столице. Полковник никогда её об этом не спрашивал.
«Вот нас и осталось трое, – с горечью подумал он, – трое никому не нужных странных стариков. Ещё вчера нас было четверо. А однажды не останется никого».
– Вот если бы нам найти привязку, – осторожно сказал Лазарь Моисеевич. – Что его держит здесь? Найти бы… А, Полковник? Пара дней у нас в запасе есть, пока… эээ… пока он более-менее похож на живого, я извиняюсь. Сейчас, слава Богу, не жарко.
Полковник молчал, задумчиво глядя, как штормовой ветер треплет два маленьких кипариса, которые несли вахту в тяжёлых глиняных горшках у входа в кафе.
– В конце концов, мы встречались в этом кафе почти каждый день лет двадцать, – сказала Клархен.
– И он часто соглашался сыграть с нами в преферанс, – добавил Лазарь Моисеевич.
– Он всегда уступал мне место, если не оставалось свободных стульев.
– Он не обижался, даже когда мы спорили с ним о политике. Добрейший был человек, Боже мой!
– А когда я болела – всегда звонил и спрашивал, не нужна ли помощь. Однажды принёс бульон, который сам сварил…
– В конце концов, он был таким же магом, как и мы!
– Он был очень одиноким.
– Ему больше некому помочь, Полковник. Не упокаивать же, в самом деле…
Полковник наконец оторвался от созерцания кипарисов.
– Ноэль был нашим другом, – глухо сказал он. – И мы должны сделать для него всё, что в наших силах. А упокаивать… Если уж только совсем ничего не выйдет.
Может, ему и показалось, но Клархен и Лазарь вздохнули с облегчением.
Упокоение – процедура сложная, жестокая и, по сути, мерзкая. После смерти душа должна выскользнуть из тела, как ядро ореха из скорлупы, как ребёнок из чрева матери, – целая, созревшая, готовая к дальнейшему пути. Если тело умерло, а душа не смогла выйти, – умерший превращался в бродячего покойника, существо опасное и непредсказуемое. И если не удалось найти причину, по которой душа застряла в умершем уже теле, – бродячий покойник однозначно подлежал упокоению. Тогда во время обряда связи, скреплявшие тело и душу, грубо разрывались, а вместе с ними рвались и тонкие эфирные оболочки. Да, тело отправлялось на кладбище и более не тревожило живых, но что после этого происходило с душой… Правильнее всего это было бы определить как полную и окончательную смерть.
Смерть, которая перечёркивала всю прожитую жизнь.
– И что нам таки теперь делать? – вновь спросил Лазарь Моисеевич.