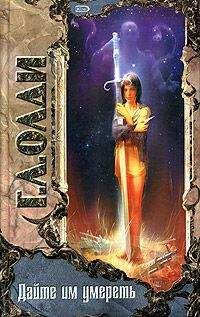Юрий Невский
Космонавты Гитлера. У почтальонов долгая память
Кто стучится в дверь ко мне
С толстой сумкой на ремне?
Из детской книжки
Стрелок размел листья, обломанные ветки, заброшенные ветрами на крышу, расчистил себе место подле кирпичного бордюра, опоясавшего по периметру жестяной скат крыши, раскатал термоковрик. Открыл пластмассовый обтекаемый футляр с винтовкой, несколькими точными движениями приготовил оружие. Достал из рюкзака и закрепил на голове, поверх черной вязаной шапки, пластиковый обод с наушниками, выдвижным радиомикрофоном и устройством, вроде компактной «видеокамеры» – от него на подвижном кронштейне сдвинул к глазам окуляр. Провод от этого устройства «включил» в винтовку, в специальный штекер. Глянул на часы (на них памятная гравировка от самого министра обороны)… в общем, в норматив уложился. Но все же, исходя из своего опыта, он предполагал – до того, чтобы пришлось стрелять, дело вряд ли дойдет. Скоре всего, все опять отменят.
…А девочка впервые вошла в церковь (конечно, ей были неизвестны такие высокие слова, как «припала к телу Церкви»). Вместе с бабушкой вошла в двери (правда, очень высокие, настоящие Врата) – ей показалось – она стала падать в темное открывшееся пространство. Высокий купол, рассыпавшийся блеск по золоту окладов, бородатые, строго глянувшие старцы! Закружилась голова… может, от контраста яркого солнечного дня – и темного провала, откуда повеяло чем-то запредельно таинственным, что вот-вот сбудется, осуществится наяву? Увидела все как бы сверху, словно паря в ставшем плотным, удерживающим ее воздухе. Где-то под ней – крохотные трепетные огоньки свечей сливались в мерцающий угольным жаром накал городов… всех больших и малых селений… совсем заброшенных деревень по всей огромной, проплывающей внизу и словно бы дохнувшей на нее неимоверным благоуханным духом русской земле.
…И альпинист открыл глаза, стараясь привыкнуть к полумраку, разглядеть хоть что-то из проема каменного мешка, низкого свода пещеры или грота, где он лежал, укрытый брезентовым пологом. Звезды бледнели на предутренней карте неба… а ведь когда-то пунктир звездных блесков вел его к непокоренным вершинам… Но вот эти маршруты исчезают, гаснут для него. От воспоминаний – вздоха – резкая вспышка, ослепительное видение
черное крыло скользнувшего коршуна
он чиркнул бритвенным разрезом полета по синей оболочке небес. И – падающая скала, обрушившиеся глыбы, загромоздившие узкий гребень, по которому поднимался отряд. Кто остался в живых после махины в полнеба… отколовшейся, рухнувшей? Ему показалось (он видел?) – птица ударилась о скальный останец, разошедшийся тут же, распавшийся на иззубренные части. Неведомая сила вырвала каменный зуб из голубизны – в этом месте остался зияющий ободранный проем, сочащийся чернотой… Серый прах, нагромождение гигантских плит, крики из-под завала.
Ужас произошедшего перетек в затылок, запекся саднящей коркой. Боль, притихшая за ночь (но размножившаяся, угнездившаяся в каждой клеточке тела) – выпустила свои щупальца, расправила ядовитые жала, впрыснула отраву в тут же немеющие мышцы. В груди что-то сдвинулось с хрипом: и легкие искрошены, превратились в каменную россыпь.
Это утро… тяжелое и невыносимое…
Да, пожалуй, стоит дать ему самый высокий уровень сложности – «шестой». Он был введен… «шестой уровень сложности», когда же? В двадцать шестом году? Эмиль Золлидер поднялся на восточную грань Сасс-Маор, самую высокую и грозную в Доломитах. Тогда шкала оценки сложности восхождения заканчивалась на «пятом» уровне. После легендарного подъема Золлидера ввели «шестой». А сейчас… если собраться, оценить ситуацию… Можно ввести и «седьмой» уровень. Непреодолимый в его тридцатисемилетней жизни.
Когда-то альпинист поднялся на Чимаделла-Мадонна по Шляйерканте – так называют этот маршрут немецкие горовосходители. Спиголо-дель-Вела, говорят местные проводники. «Занавешенный край». Но там не было безумных горцев с их допотопными ружьями, осатаневшие пули из этих ружей злыми пчелами кружились подле невзрачных на вид эдельвейсов, вышитых на нарукавных знаках бойцов их отряда: и эти знаки заливало кровью, разрывало на части… Зигфрид… он тащил его, вокруг метались пули, рикошетя среди камней, скручивая из крошева длинные завитки. Тащил, кричал что-то сквозь наплывающую мглу, взрезал на нем одежду, бинтовал. И Отто… Ведь с ними был Отто… Альпинист осмотрелся, с трудом повернув голову. Не так далеко на камни свалены рюкзаки, мотки горных веревок, ледоруб с длинным древком, прислонены два карабина, автомат. Ему показалось, все затянуто керосиновым чадом… И точно: на плоском камне – смятый цилиндр еще шипящего примуса, натаявшая вокруг лужица. Отто лежит дальше, в стороне, укрыт чьим-то прожженным бушлатом, под головой у него скатка. Сам черен, недвижен. Они остались втроем.
Громоздкая коробка «Телефункена», индикатор светился далекой зеленой звездой. Кто же тащил передатчик, где их радист… Пауль, Рихард, Шлемке? Из эфира – треск, шорох, голоса. Диктор передает об ужасе схватки один на один с многорукими исполинами, подпирающими небо (этот голос преследовал его всю ночь). И опять про дикий хаос запутанных лабиринтов каменной страны. Про дыхание дьявола из ущелий, доходящих до самой преисподней. Про снедающие душу оползни. Снежные лавины, мгновенно накрывающие сознание, гасящие свет дня. Про стерегущие бураны, что, как оборотни, могут подкрасться и при самой ясной погоде. Про искрящийся фирн1, ослепляющий зрение. Про то, что в дыму костров ночных стоянок над тобой будто склоняется во все небо бородатое лицо… И кто-то неведомый вращает настройку, улавливая на свою волну… Теперь вечно звучать на ней, резонируя и совпадая по частоте с манящей бесконечностью музыки Сфер.
[Надтекст]
Залетающий в открытое окно ветерок слегка колыхал плотно задернутые от полдневного марева шторы в кабинете на седьмом этаже. Но солнечный луч, найдя зазор между ними, образовал по диагонали – от блеснувшего портрета на стене к сверкнувшей пряжке дремлющего под портретом дежурного прапорщика Лопатина, к бликам полировки массивного стола, к радужно преломившимся граням карандашной подставки – золотистую плоскость с кружением вспыхивающих пылинок.
Сидящий за столом сотрудник уловил солнечную искру на золоте своего перстня. От небесной эмали на вставке, добродушного Мишки, символа предстоящей Олимпиады, по столу, по лежащим перед сотрудником листам протокола, разбежались голубоватые росчерки… Словно роспись, подтверждающая, что дождя сегодня, точно, не будет. Совсем не по-весеннему жарит в Москве. Суббота. Монотонно бормочет радио. Дежурный прапорщик Лопатин пускает пузыри мирного сна.