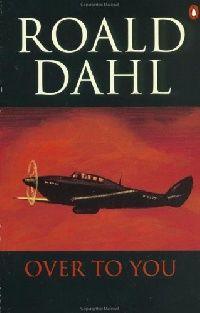Я уже позабыл многие детали этой истории, тем более из того, что ей предшествовало.
Мы приземлились в Фауке, где парни, летавшие на «бленхеймах», приняли нас по-братски и напоили чаем, пока мы заправляли машины. Я хорошо помню, как они входили молча в столовую, пили чай и выходили, так и не произнеся ни слова. Они изо всех сил держали себя в руках, хотя дела шли без особого блеска. Они совершали огромное количество вылетов, а пополнений не поступало.
Мы поблагодарили за чай и вышли посмотреть, заполнены ли уже баки наших «гладиаторов». Дул сильный ветер. Аэродромная «колбаса» надулась и стояла прямо, как дорожный указатель. Песок хлестал по ногам, со свистом шуршал по палаткам, палатки хлопали на ветру, как будто сшитые из брезента люди били в ладоши.
— Бомбардировщикам не везёт, — сказал Питер.
— Так уж и не везёт, — отвечал я.
— Нервничают.
— Да что там нервничают. Им просто досталось, но они выдержат. Видел, как они держатся?
Наши два стареньких «гладиатора» стояли один подле другого, и техники в рубашках и шортах цвета хаки всё ещё суетились около них. На мне был тонкий хлопчатобумажный лётный костюм белого цвета, на Питере — голубой. Дополнительного утепления в полёте не требовалось.
— Где это? — спросил Питер. — Далеко?
— Двадцать одна миля за Черинг-Кросс, по правую сторону от дороги.
Дорога, шедшая через пустыню на север от Мирса-Матрух, именовалась Черинг-Кросс. Итальянцы вырвались из Мирсы и быстро продвигались вперёд. Насколько мне известно, это был единственный случай, когда они добились серьёзных успехов. Их настроение постоянно то падало, то поднималось, как слишком чувствительный альтиметр, и в те дни стрелка зашкаливала, потому что державы «Оси Берлин — Рим» были на вершине успеха. Мы бродили взад и вперёд, пока техники заканчивали заправку.
— Прогулка, — сказал Питер.
— Да, всё должно пройти как по маслу.
Мы разошлись. Я влез в кабину. Лицо техника, помогавшего мне пристёгиваться, стоит у меня перед глазами поныне. Немолодой, около сорока, лысый, лишь на затылке золотился венчик волос, с морщинистым лицом и взглядом, похожим на взгляд моей бабушки, он как будто всю жизнь занимался тем, что помогал пристёгиваться пилотам, которые не возвращались. Стоя на крыле, он затягивал потуже ремни и проговорил:
— Будь осторожнее. Только дурак забывает про осторожность.
— Всё будет как по маслу, — ответил я.
— Чёрта с два.
— Да ну, прогулка! Нет тут ничего сложного.
Дальше я ничего не помню, а помню, что было уже потом. Мы, видимо, взлетели и взяли курс на запад, на Мирсу, держа высоту порядка восьмисот футов. По правую руку открылось море, и кажется — нет, не кажется, точно, оно было синее и очень красивое, особенно там, где накатывалось на песок и превращалось в толстую белую полосу, уходящую на запад и на восток, насколько хватал глаз. Наверное, мы перелетели над Черинг-Кросс и пролетели двадцать одну милю, куда было приказано, но в этом я не уверен. Помню, что где-то начались неприятности, дела пошли худо, и мы в какой-то момент повернули назад. Самое скверное, что я летел слишком низко, чтобы выпрыгнуть. С этого момента мои воспоминания делаются непрерывными. Я и сейчас вижу, как самолёт клюнул носом, я посмотрел вниз и увидал одинокий куст верблюжьей колючки. Рядом лежали камни. Трава, камни и песок вдруг отделились от земли и прыгнули прямо на меня. Как сейчас вижу это.
Затем новый провал, может быть на секунду, может на полминуты, не знаю. Пожалуй, всё-таки коротко, не больше секунды, и вот я слышу: «П-пуф-ф!» — загорелся бак на правом крыле, и тут же: «П-пуф-ф!» — левый бак загорелся. Мне это не показалось чем-то особо важным. Я чувствовал себя отлично, сидел спокойно. Очень хотелось спать. Глаза потеряли способность видеть, но и это было не важно. Всё шло прекрасно, нормально, пока я не почувствовал жар в ногах. Сперва ощущалось приятное тепло, но почти тотчас же оно обратилось в жгучий, опаляющий жар, боль в обеих ногах.
Жар был неприятен. Не более. Он мне не нравился, поэтому я убрал ноги под кресло и стал ждать, что будет дальше. По-видимому, нарушилась телеграфная связь между телом и мозгом. Она начала работать со сбоями или чересчур медленно информировала мозг о происходящем. Новые инструкции поступали тоже с задержкой. Отправленная наконец депеша гласила: «Здесь внизу очень жарко. Подписано: Левая Нога, Правая Нога». Долгое молчание. Мозг обдумывал ситуацию.
Потом по проводам прошёл, слово за словом, ответ: «Самолёт — загорелся — выпрыгивай — повторяю — выпрыгивай». Ответ был адресован всей системе, мускулам ног, рук и туловища, и мускулы пришли в действие. Они старались вовсю, дёргались, изгибались, напрягались, но тщетно. Вторая телеграмма ушла наверх: «Не могу высвободиться, что-то держит». Новый ответ занял ещё больше времени, чем предыдущий, а жар усиливался. Что-то в меня вцепилось, и мозг пытался понять что: гигантские ладони, надавливающие на плечи, булыжники, небоскрёбы, паровые катки, шкафы? Минуточку. Это же привязные ремни. Пришёл неторопливый ответ: «Ремни — расстегни — ремни». Получив приказ, руки принялись за дело. Они оттягивали пряжки, те не поддавались. Руки, мешая одна другой, тянули изо всех сил. Безрезультатно. Ушёл новый запрос: «Как расстёгиваются ремни?»
На сей раз ожидание ответа заняло три или четыре минуты. Спешить и нервничать было бессмысленно, это я точно знал. Но сколько же можно ждать? Вслух я произнёс:
— К чертям, не собираюсь я сгореть заживо…
Меня прервали. Пришёл ответ? Или нет… Да, пришёл: «Вытяни аварийный — штифт — быстрее — кретин — болван».
Я вытянул штифт, и ремни ослабли. Теперь вылезти. Вылезаем, вылезаем. Не получается. Не удавалось выбраться из кабины. Руки и ноги трудились добросовестно, но ничего не могли сделать. Ушёл наверх последний отчаянный запрос с пометкой «Срочно»: «Что-то ещё держит нас, очень тяжёлое».
Ни руки, ни ноги понапрасну не суетились. Они инстинктивно знали, что сила им не поможет. Они сосредоточенно ожидали ответа, но как он долго не приходил! Двадцать, тридцать, сорок жарких секунд… Ничто не раскалилось добела, не было ни шипенья горящей плоти, ни запаха горелого мяса, но это могло начаться вот-вот, потому что старые «гладиаторы» изготовлялись не из упрочнённой стали, как «харикейны» и «спитфайры». Их полотняные, туго натянутые крылья пропитывались абсолютно несгораемым раствором, но под ними помещались сотни маленьких тонких распорок из тех, что идут на растопку, разве что ещё тоньше и суше. Если бы какой-нибудь умник сказал себе: «А сделаю-ка я нечто такое, что будет пылать ярче всего на свете» — и принялся за усердный труд, он бы в конце концов сотворил что-нибудь похожее на «гладиатор».