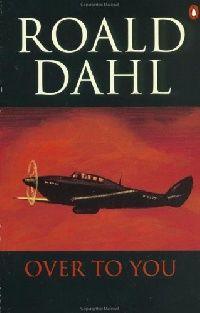Я терпеливо ждал. Ответ пришёл замечательный, во-первых, очень быстро, а во-вторых, всё разъяснилось: «Парашют — поверни — застёжку».
Я повернул застёжку, освободил парашют, не без усилия приподнялся и перевалился через борт. Что-то горело. Я перекатился по песку, отполз подальше на четвереньках и лёг.
В огне рвались боеприпасы моего пулемёта, пули ударяли рядом в песок. Я их не боялся, а просто слышал.
Возникла боль. Сильней всего болело лицо. С лицом что-то случилось. Я подтянул руки к лицу, оно было липким. Где нос? Нос делся куда-то. Я поискал зубы, но не сумел определить наверняка, есть они или нет. Потом, наверное, задремал.
Вдруг откуда ни возьмись рядом со мной оказался Питер. Я слышал его голос и как он плясал вокруг, вопил как сумасшедший, тряс мою руку и говорил:
— Господи, я думал, ты там, внутри. Я грохнулся в полмиле отсюда и прибежал к тебе. Ты как, в порядке?
Я спросил:
— Питер, что с моим носом?
Он чиркнул в темноте спичкой (в пустыне ночь наступает мгновенно) и после паузы сказал:
— Не то чтобы от него много осталось… Болит?
— Не задавай дурацких вопросов, конечно болит!
Он сказал, что пойдёт к своему самолёту взять морфия из аптечки, но вскоре вернулся со словами, что не нашёл самолёта в темноте.
— Питер, — сказал я, — я ничего не вижу.
— Я тоже, — сказал он. — Ночь.
Стало холодно. Стало ужасно холодно. Питер вытянулся возле, чтобы нам греться друг о друга. То и дело он повторял:
— В жизни ещё не видал человека без носа.
Время от времени я сплёвывал кровь, много крови, и каждый раз Питер зажигал спичку. Раз он протянул мне сигарету, но она отсырела, и вообще мне не хотелось.
Не знаю, сколько мы с ним так провели, и мало что помню после. Помню, я говорил Питеру, что у меня в кармане есть таблетки от горла и чтоб он их принимал, а то заразится от меня и у него тоже заболит горло. Я спрашивал у него, где мы. Он отвечал, на ничьей земле. Потом раздались голоса английского патруля, они по-английски спрашивали, не итальянцы ли мы. Питер ответил что-то, не помню что.
Позже был суп — горячий, густой, и мне от одной ложки сделалось плохо. И всё время не уходило приятное ощущение того, что Питер здесь, что он замечательный, всё правильно делает и никуда не уходит. Вот все мои воспоминания.
* * *
Люди с кистями и красками стояли у самолётов и жаловались на жару.
— На самолётах картинки рисовать? — удивился я.
— Да, — сказал Питер. — Классная идея. Не всякий додумается.
— Зачем, — спросил я. — Ну, объясни!
— Рисуем смешные картинки, — ответил он, — немецкие лётчики их как увидят, начнут смеяться. От смеха потеряют равновесие и ни во что не смогут попасть.
— Господи, какой вздор! Вздор, вздор, вздор!
— Нет, классная идея! Отличная! Пойди глянь.
Мы побежали к самолётам.
— Прыг, прыг, скок, — крикнул Питер, — прыг, прыг, скок! Поспевай!
— Прыг, прыг, скок, — крикнул я, — прыг, прыг, скок. — И мы помчались вприпрыжку.
Первый самолёт разрисовывал грустный человек в соломенной шляпе. Он перерисовывал картинку из журнала, и, увидав её, Питер воскликнул: «Боже, ну и картинка» — и покатился со смеху. Смех перешёл в урчание, потом в рёв, он хлопал себя по ляжкам и перегибался с широко открытым ртом и зажмуренными глазами. Шёлковый цилиндр свалился на песок с его головы.
— Не смешно, — сказал я.
— Это не смешно? — воскликнул он. — Как то есть не смешно? Ты на меня посмотри. Видишь, как я смеюсь? Мог бы я сейчас попасть в цель? Ни в дом, ни в дуб, ни в гроб!
И он запрыгал по песку, заливаясь хохотом.
— Прыг, прыг, скок, — приговаривал он. — Прыг, прыг, скок.
Маленький человечек с морщинистым лицом красным мелком писал на фюзеляже что-то длинное. Соломенная шляпа сидела у него на макушке, лицо блестело от пота.
— Доброе утро, — сказал он и изящным жестом снял шляпу.
— Заткнись, — отвечал Питер и, наклонившись, стал читать то, что написал человечек. Он хрюкал, фыркал и хохотал, раскачивался и приплясывал на песке, хлопал себя по ляжкам и наклонялся.
— Ну и класс, ну и класс, ну и класс, ну и рассказ. — Он встал на цыпочки, встряхнул головой и заржал, как припадочный. Тут и до меня тоже дошло, в чём соль рассказа на фюзеляже, и я засмеялся. От смеха у меня живот заболел, я упал и покатился с хохотом по песку, потому что ничего смешнее нельзя было себе и представить.
— Питер, ты молодчага, — сказал я, — но как насчёт немцев? У них как, все лётчики могут читать по-английски?
— Вот чёрт, — сказал он. — Вот чёрт, — и заорал: — Прекратить!
Все опустили кисти, неторопливо обернулись к нему, потом хороводом прошлись на цыпочках, нараспев приговаривая:
— На фюзеляже — чепуха, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, у бензобака ерунда, да-да-да-да, да-да-да-да.
— Заткнитесь, — оборвал Питер. — Надо малость подумать. Мы перемудрили. Где мой цилиндр?
— Чего? — спросил я.
— Ты знаешь немецкий, — сказал он мне. — Переведёшь. Он вам переведёт, — крикнул он. — На немецкий!
Его чёрный цилиндр лежал на песке. Я отвернулся, взглянул ещё раз — он был на том же месте. Шёлковый парадный цилиндр валялся в песке.
Я закричал:
— Ты ненормальный! Свихнулся! Ты ничего не соображаешь! Ты сам понимаешь, что свихнулся? Из-за тебя нас всех перебьют!
— Боже, как вы кричите! Не надо так кричать. Вам это вредно.
Голос принадлежал женщине.
— Вы прямо горите, — сказала она, и кто-то вытер мне лоб платком. — Не надо так волноваться.
Она ушла, а я смотрел в бледное голубое небо. Безоблачное небо кишело немецкими истребителями — сверху, снизу, по сторонам. Деться мне было некуда, и сделать я ничего не мог. Они заходили на меня один за одним, весело и беззаботно крутясь и танцуя в воздухе, но я не боялся: на крыльях у меня были смешные картинки. Я думал: «Я здесь один против ста, и я их всех посшибаю. Дождусь, чтобы они начали смеяться, и посшибаю, факт».
Они подлетели ближе. Их было столько, что они заслоняли дневной свет; столько, что я не мог выбрать, на кого смотреть, кого сбивать первым; столько, что в небе как будто повис чёрный занавес и лишь кое-где, в разрыве, просвечивала голубизна. Вопрос, хватило бы её или нет, чтобы залатать прорехи в лохмотьях нищего. Хватит — тогда всё в порядке, нет плохо.
Они подлетели ближе, ещё ближе, ещё, и прямо перед глазами у меня встали чёрные кресты, ярко выделявшиеся на крашеных боках «мессершмиттов» и на голубом фоне неба. А я всё вертел головой. Крестов и самолётов становилось всё больше, и в конце концов в поле зрения остались кресты и небо. Кресты оканчивались ладонями. Они взялись за руки, образовали круг и затанцевали вокруг моего «гладиатора», и моторы «мессершмиттов» пели глубокими мажорными голосами. Они наигрывали «Апельсин-Лимон». По очереди, пара за парой входили в центр круга и нападали на меня, и я понимал тогда, что это как раз и были: с одной стороны — Апельсин, с другой — Лимон. Они кренились, кружились, вставали на цыпочки и опирались на воздух то одним боком, то другим.