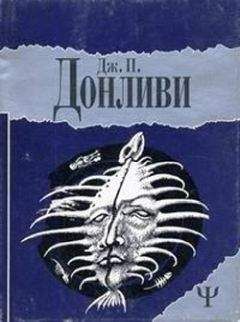— Кстати о деньгах, Кеннет.
Лицо у О’Кифи становится каменным. Он быстро протягивает руку за булочкой.
— Послушай, Кеннет, я знаю, что моя просьба несколько несвоевременна, но не смог бы ты одолжить мне десяток монет?
О’Кифи обшарил кафе своим единственным глазом, нашел официантку и сделал ей знак подойти.
— Счет, пожалуйста. Два кофе, две булочки и пирожное. Я вас покидаю.
О’Кифи напяливает кепку. Рюкзак он забросил на плечи. Дэнджерфилд плетется за ним, как верный пес за вожделенной костью.
— Ну, Кеннет, всего только десять фунтов. Обещаю, что ты их получишь через четыре дня, как только приедешь на место. Уж можешь на меня положиться. Срочный заем. Во вторник я получу перевод от предка. Говорю тебе, Кеннет, деньги нужны мне до зарезу. К тому же твои деньги будут у меня в большей безопасности, чем у тебя — ты ведь можешь разбиться на самолете.
— Ты очень заботлив.
— Ну будь по-твоему — восемь.
— Это по-твоему восемь, а по моему — ноль. У меня их просто нет. Я, изголодавшийся по женщинам, брожу по улицам в полном одиночестве, отказывая себе во всем, чтобы отложить хоть несколько грошей, и впервые за несколько месяцев у меня появилось несколько монет для того, чтобы выкупаться, постричься и убраться отсюда, но вот появляешься ты и опять припираешь меня к стенке. О Господи, почему я дружу с нищими?!
Они пробираются среди стульев и стеклянных, прозрачных столов; у стойки выстроились смуглые официантки, их сложенные руки покоятся на черных бюстах, дребезжат чашки, пахнет жареным кофе. О’Кифи останавливается перед высоким кассовым аппаратом и роется в кармане. Дэнджерфилд ждет.
— Давай, давай, шпионь за мной. Ты все верно понял. Да, у меня есть деньги. Ты просто загоняешь меня в угол.
— Я ведь ничего не сказал, Кеннет.
— Черт с тобой, возьми их, возьми, Христа ради, и напейся или сделай с ними все, что хочешь, но вот что, ты, разрази тебя гром, переведешь мне деньги, и они должны быть там до моего приезда. Ты победил.
— Ну, Кеннет, не принимай все так близко к сердцу.
— Я просто дурак. Если бы у меня водились деньжата, я просто послал бы тебя к чертям собачьим. Нищие отбирают последнее у нищих.
— Бедность преходяща, Кеннет.
— В твоем случае, может быть, это и так, а вот что касается меня, то я могу скатиться на самое дно и остаться там навсегда. Все устроено именно для того, чтобы держать меня в бедности. И я уже не в силах ее выносить. И я должен разбиться в лепешку, чтобы загрести деньжат. Работать. Шевелить мозгами.
— И как тебе это удается?
— Вот посмотри.
О’Кифи вынимает из кармана несколько измятых, грязных листков, вырванных из дешевого блокнота.
— Тебя не назовешь чистюлей, дружище.
— Да читай же!
«Вот в каком положении я нахожусь. У меня нет одежды, и два дня я ничего не ел. Мне нужны деньги, чтобы оплатить проезд во Францию, где меня ждет работа. В этой ситуации мне начхать на славное имя О’Кифи. И поэтому я явлюсь в американское консульство и попрошу, чтобы меня отправили домой, и причем постараюсь, чтобы эта история привлекла внимание «Айриш Пресс» и «Айриш Индепендент», которые, вероятно, сочтут весьма забавным, что американец, находящийся на родине своих предков без гроша в кармане, лишен какой бы то ни было помощи своих родственников. Если в конце недели я получу деньги, то незамедлительно отправлюсь во Францию, и больше вы ничего обо мне не услышите. Честно говоря, меня устраивает любой из этих вариантов, однако я должен думать о своих родственниках и о том, что скажут соседи. Думаю, что моя мать умерла бы от стыда.»
Искренне Ваш К.О’КифиО’Кифи вынул из кармана еще одно письмо.
— А вот ответ от преподобного Мойнихена. Это ему мать просила передать пару туфель, и я сказал таможенникам, что если мне придется заплатить за них хоть один грош пошлины, то я просто вышвырну их в море. Таможенник пропустил их без пошлины. О Господи, помоги мне быстрее забыть этого выродка.
Дэнджерфилд держит в руках листок голубой бумаги, явно вырванный из блокнота.
«Получив твое презренное письмо, самое отзратительное из когда-либо адресованных мне, я не смог заставить себя начать с приветствия, фактически, это шантаж. Трудно себе представить, что ты вырос в приличной католической семье, и к тому же являешься моим племянником. Такие люди, как ты, — позор для Америки. Однако всегда находятся развратные, испорченные до мозга костей подонки, угрожающие благонамеренным гражданам, не щадящим усилий для воспитания неблагодарных негодяев. И как только ты смеешь так нагло мне угрожать? Я не отнес это мерзкое письмо в полицию только потому, что ты сын моей сестры. Я посылаю тебе твои тридцать серебреников и не потерплю, чтобы ты еще раз напомнил мне о своем существовании. Ты пренебрег моим гостеприимством и унизил мое достоинство, что никогда прежде не случалось в моем приходе. Мне также известно о твоих попытках совратить с пути истинного одну из дочерей миссис Кейси. Я предупреждаю тебя, и если ты еще раз напомнишь мне о себе, то я сообщу твоей матушке обо всех подробностях этой дурацкой выходки.»
Преподобный Дж. Мойнихен— Просто фантастика, Кеннет. И что же ты там учудил?
— О Господи, вспоминать не хочется. Я сказал девушке из библиотеки, что она должна избавиться от предрассудков. Она была польщена. Но, вероятно, когда я с ней распрощался, стала испытывать угрызения совести и на исповеди призналась этому старому прохвосту, что я прикоснулся к ее руке. Ничего нового, все та же история: отчаяние, безысходность, нищета. И этот выживший из ума пропойца рассуждает о достоинстве? Никогда в жизни я так не страдал от холода. В том чертовом доме было холодно, как в морге. Разве от него дождешься, чтобы он подбросил в камин чуть больше торфа? Вскоре, когда он обнаружил, что я беден как церковная мышь и рассчитываю только на его щедрость, огонь в камине вообще погас и сигареты, дотоле лежавшие повсюду в доме, исчезли, а служанка принялась стеречь кухню, как Цербер. Впрочем, печалиться уже не о чем: в это оскорбительное письмо были вложены десять фунтов. Прежде, когда я просил у него денег, он присылал мне полкроны.
— Надо отдать тебе должное, Кеннет, ты предприимчив. Если когда-нибудь возвратишься в Америку — разбогатеешь.
— Деньги мне нужны здесь. Если бы у меня завелись монеты, я остался бы здесь до последнего вздоха. Но какие жмоты! Нужно держаться подальше от сельской местности. После визита к преподобному Мойнихену я решил выяснить, могу ли я рассчитывать на гостеприимство родственников моего папочки. Свора безмозглых идиотов! Но сперва, как только я приехал, они выставили на стол все лучшее, что у них было, правда, я чувствовал себя неловко: я сидел на одном конце стола со скатертью и салфетками, а они давились жратвой на голых досках. Я справился у них, почему я не могу, как и они, есть на столе без скатерти, и они ответили, о нет, ты из Америки, и мы хотим, чтобы ты чувствовал себя как дома, по этому случаю они даже выгнали из дому свиней и кур, что не вызвало у меня возражений, но затем они поинтересовались, когда я уеду, и я, как кретин, признался, что сижу на бобах. Куры и свиньи сразу возвратились в дом, а скатерти и салфетки исчезли. Но я продержался у них до самого Рождества, пока мой дядюшка не сказал: «А теперь преклоним колена, а молитвы будем считать по четкам». И на твердом, холодном полу я бормотал молитвы и мечтал о заднице, которой мне так не хватало в Дублине. Я сорвался сразу после праздничного ужина. По крайней мере, я поужинал.