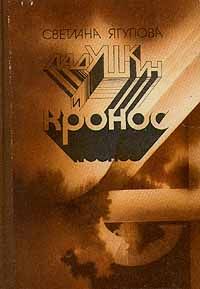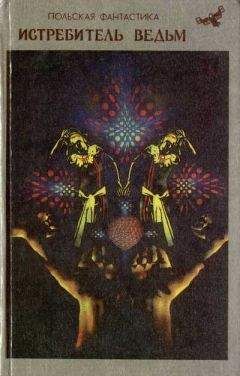— Ничего, — бодрячески сказал он, морщась от неестественности собственного тона. — Мы вынесем это испытание. Подумаешь, лифт застрял. Представьте, каково ребятам на кораблях, подводных лодках. А в войну…
— Что за чушь вы несете? — сказал Селюков, и трезвый, спокойный тон его голоса благотворно подействовал на окружающих.
Лобанов и сам понимал, что его сравнения неуместны, но какой-то дьявол вытягивал из него нечто ненужное, затертое:
— И не такие трудности выпадали на долю человека. Надо уметь все преодолевать.
— Да перестаньте же наконец, — сердито оборвала Январева и несколько раз стукнула в стенку трубкой.
Снаружи по-прежнему не доносилось ни звука. Каждому вновь почудилось, что связь с миром прервана.
— Может, какая-нибудь глобальная авария? — запинаясь, сказал Петушков.
— Разве что взорвался ваш котел, — усмехнулся Лобанов, поднимая воротник плаща, будто это могло согреть.
Петушков обидчиво промолчал, и Январева с досадой подумала, какой же он тюня.
Внезапно зажегся свет, на миг ослепил и вызвал общее оживление.
— Наконец-то! — воскликнула Ирина Михайловна, поправляя берет, и Лобанов про себя отметил, какой он пронзительно синий.
Радость оказалась преждевременной — лифт по-прежнему не двигался.
— Ну-ка, дайте взгляну на вас, — обернулся Лобанов к Селюкову и протянул нараспев: — У-ди-ви-тель-но!
— Что именно? — не понял тот.
— Вроде бы нет в вас ничего от монстра, обыкновенный человек, а ведете себя не по-человечески.
Все молчали, мрачновато поглядывая друг на друга. Лобанов продолжал в упор разглядывать Селюкова, но тот не обращал на него внимания.
Ирина Михайловна исступленно грызла яблоко, тревожно думая о том, что скоро ей понадобится выйти.
— Что же, так и будем стоять? А ну-ка, угощайтесь в честь моего юбилея. — Январева достала из спортивной сумки кулек с «Белочкой» и кунжутным ирисом.
— Я тебе тут подарок приготовил, — выдохнул Петушков ей в ухо.
— Что-нибудь нарисовал? — обрадовалась она. Петушков часто дарил ей рисунки. Странные на иной взгляд и слегка страшноватые, они чем-то притягивали, некоторые по-настоящему нравились, хотя изображали удивительных, фантастических людей без кожи. Возможно, причуда Петушкова исходила из того, что и сам он был каким-то бескожим, незащищенным. Воспитывали его мать и две тетки, вот и вырастили этакое растеньице.
А ведь угадала: достал из портфеля лист ватмана, на нем акварель. В сине-черном небе, среди звезд летит обнаженная девушка с четко выписанными мышцами. И хотя у нее длинные, развевающиеся на космическом ветру волосы, можно узнать в девушке себя.
— Тебе нравится?
— Очень. Но опять без кожи. Почему?
— Не знаю, так получается.
Рисунок пошел по рукам.
— Как из учебника анатомии, — поморщился Лобанов. — Ну зачем так ошкурил ее?
— Это у него манера такая, — заступилась Январева и притронулась к его рукаву. — Коля, что это за манера?
— Не знаю.
— Вот видите, — просияла она и чмокнула Петушкова в щеку. — Он у нас талант, а мы не осознаем это, и он сам не понимает, кто он такой.
Ирина Михайловна достала из сумки карманное зеркальце и губную помаду:
— На космосе нынче все помешались. — Отвернувшись к стенке, провела помадой по губам.
Лобанов вдруг заметил, что его охватывает благодушие. Захотелось сказать каждому что-нибудь хорошее, подбадривающее, даже Селюкову, который старательно не смотрел в его сторону. Ведь если разобраться, все здесь товарищи по нелепому случаю, и это сближает. Сколько они уже здесь — час? два?
— Антон Дмитриевич, — шурша конфетной оберткой, сказал он как можно любезнее. — Вероятно, уже получили ваш сигнал? Чего только мы не делаем сгоряча. Что ж, все мы люди-человеки. А знаете, — вдохновенно продолжал он, — ничего страшного еще не случилось. Вот приедет комиссия, а вы так и скажете — мол, нервишки в последнее время сдавать стали, работы много, перенапряжение, вот и сорвался. Я не злопамятен, да и шеф тоже. В дальнейшем мы поладим, утрясем неполадки и без чужого дядечки из столицы.
— Нет, Петр Семенович, — холодно сказал Селюков. — Я никогда не изменял своим принципам и говорить на черное — белое не намерен.
— Вот оно что, — Лобанов прикусил губу и внимательно взглянул на Селюкова. «Однако этот тип опасен, — подумал он. — Хоть бы вынести его присутствие здесь, рядом, не наговорить глупостей, а то аж руки чешутся врезать по этой круглой мордахе. Надо же, какое добро на шею взяли. И ведь воображает себя борцом за справедливость. Теперь от него не так просто отделаться. Такие прочно стоят на земле, знают все юридические тонкости. Начни под него подкоп, сам окажешься в яме. Хотя чего бояться комиссии? Ничего чрезвычайного не случилось, все идет нормально, как всегда. Правда, последнее время ведут себя расхлябанно, надо построже быть. Шеф хочет выглядеть добреньким, а вся ответственность, разумеется, на завотделами. Мол, сами гайки подкручивайте. Вот и надо подкручивать».
— Мы в критической ситуации, а вы, Антон Дмитриевич, воинствуете, сказала Январева. — Смотрите, я стучу в стенку. Ну? Ни звука. Нужно стоять, варить информацию, а не грызться.
Лобанов поморщился от ее сленга, однако обрадовался, что у него появилась защита, и продолжил:
— В критических ситуациях главное — не суетиться, быть собранным. Вспомните, что по этому поводу писал Бомбар; большинство потерпевших кораблекрушение гибнут не от жажды, не от голода, а от страха. Главный наш враг — страх.
— Кстати, я гибну от жажды, — призналась Январева.
— А у меня есть кефир, — вспомнил Лобанов.
Селюков хотя и не смотрел на Лобанова в упор, видел, как побагровело его лицо, когда он услышал ответ на предложение отказаться Селюкову от своих действий. Ирина и та поглядывает недоброжелательно.
Может, зря завел разговор здесь, в лифте. Но в содеянном ничуть не раскаивается. Правда, мать жаль — расстроится, что снова полез на рожон. А Ирина, эта овечка безответная, при своем характере лет пять еще будет без квартиры.
Осторожно, боком, он продвинулся к Жураевой и взял ее за руку. Покосившись на Лобанова, она резко отдернула ее. Лобанов уловил это движение, и ему стало неприятно, будто подсмотрел что-то интимное. А Жураевой на миг представилось, что еще не все кончено, и по выходным они опять будут встречаться.
— Антон, — сказала она шепотом. — Он такой буянистый.
— Кто? — не понял Селюков.
— Наш малыш. Я уверена, это мальчишка.
— Неплохо бы. — Он мельком взглянул на ее живот и вдруг горячо зашептал в ухо: — Переходи к нам, мама будет рада. Она даже согласна отдать кому-нибудь пуделя — недавно купила, очень забавный, — если он помешает тебе.