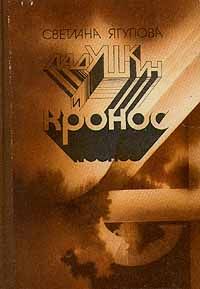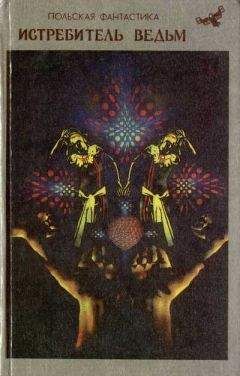Сейчас Тыоня был раздосадован. Да, удалось на некоторое время воплотиться в человека, но барьер между людьми все равно не преодолен, так как невозможно наладить языковой контакт. Однажды нарушив свой внутренний запрет не выдавать себя, он больше не мог сдерживаться. Здесь, на крыше лифта, к Тыоне пришла идея: хоть на миг приобщить людей к своему видению. А в том, что оно отлично от людского, он только что убедился. Ему хотелось растолковать этим пятерым, загнанным в лифтовый тупик, что их страх не был бы так огромен в столь необычной ситуации, если бы они знали кое-что из того, что известно ему, скитальцу вселенной. Рассказать бы им, что Земля принадлежит многим пространствам и временам, и, стремясь в космос, человек не подозревает, что готовится к открытию не только далеких планет, но прежде всего своей Земли. Придет время, и люди поймут — все чудеса, за которыми они собрались лететь в космос, находятся рядом. Прошлое, настоящее, будущее сосуществуют одновременно, нужно только научиться воспринимать их в этом единстве и овладеть искусством перехода из одного времени в другое. Палеонтологи, археологи ищут останки доисторических животных и руины древних городов, а те находятся с ними по соседству, притом, не в форме развалин и скелетов, а в целости-сохранности. Фантасты стремятся угадать, какой будет наука и техника завтрашнего дня, а над головами летают незримые корабли будущего.
Порой для Тыони стирались границы между реальностью и вымыслом, он путал истинную действительность с фантазией человеческого ума, запечатленной в книгах, живописных полотнах, скульптурных, музыкальных ритмах, в снах и грезах людей. Скажем, он не мог прочесть книгу, насладиться картиной художника. Но все человеческие фантазии обретали некий рефлекс, не видимый людям и, однако, чутко улавливаемый Тыоней. Ни один человек не мог воспринять искусство во всем его объеме. Тыоне же это было доступно, и он досадовал, что люди не наделены способностью в полную меру наслаждаться ими же созданной второй реальностью. На языке человека невозможно было объяснить, что именно доступно его слуху и зрению, но он верил: когда-нибудь люди прорвутся в сферу, подвластную пока лишь только ему, а он со временем научится видеть мир глазами людей. Тогда наконец они поймут друг друга и ему не надо будет оповещать о своем присутствии разными глупыми выходками. Мир, созданный воображением, фантазией человека, виделся ему огромным сферическим зеркалом со множеством выпуклых, вогнутых и плоских сегментов, по-разному отражающих земную жизнь.
Тыоня пытался понять — что нужно человеку на этой планете? Личное благополучие? Мир? Но тогда почему испокон веков народ идет на народ, проливается кровь? Отчего все более изощренными становятся виды орудия уничтожения? Тыоня подозревал, что ум его в некотором роде куц, и поэтому ему не-под силу какая-то важная загадка этой планеты, где издревле мечтали о мире и, однако, на протяжении всей истории своего существования убивали. Он силился разгадать причину этого, не мог и злился.
Сидя на лифтовой крыше, он размышлял: не оттого ли так непримиримы друг к другу люди, что очень разны по своим духовным и физическим свойствам? Слушая их, он был горд собой, тем, что научился понимать их язык. Но то, о чем они говорили, раздражало. После того, как он побывал в облике каждого из них, они стали ему понятней, и он подумал, что не может, пожалуй, оставить их в таком вот подвешенном состоянии. Что-то надо было делать. Но что? Наконец его осенило.
Он выбрался из лифтового отсека, невидимкой пролетел сквозь стену дома и взмыл вверх. Набирая высоту, он старался лететь под определенным углом, чтобы точно вписаться в тот слой, где, как он уже знал, присутствуют звуки, волны, вибрации — да есть ли этому название? — всего, что когда-либо случалось на Земле. Люди называли это историей, не подозревая, что она запечатлена, зафиксирована не только в толстых фолиантах, кинофильмах и учебниках. Вот она!
Он почувствовал, как его крылья стали пружинить, и понял, что достиг желаемого. Теперь усилием воли надо было заставить крылья так работать, чтобы каждую секунду они меняли положение, вбирая в себя все, во что он окунулся, фокусируя его в себе, чтобы нерасплесканным доставить на Землю. В сущности, это было безумием, он чувствовал, как его крылья прожигаются разного вида энергиями, и вовсе не был уверен в успехе. Удивительно! Он, побывавший в космосе, в беспредельных пространствах вселенной, где сгорали и зарождались звезды, куда люди не могли шагнуть, не защитив себя скафандрами и стальной обшивкой ракет, здесь, в этих слоях атмосферы Земли, он испытывал такую перегрузку, какую не знал, даже пролетая сквозь «черные дыры». Груз тысячелетий истории планеты оседал на его крыльях так болезненно, что он стал опасаться — не повредил ли их? И когда ощутил резкую боль во всем своем тельце, стал поспешно ввинчиваться в безопасные слои.
Вернувшись на Землю, он быстро нашел дом, который покинул, сломанный лифт и вновь примостился на его крыше. То, что он задумал, было самым великим его хулиганством, и, если бы он не был существом, зависящим лишь от собственной совести, кто-то непременно наказал бы его.
Шурша, искрясь, он проволок по крыше кабины свои отяжелевшие крылья и нечаянно замкнул поврежденный телефонный провод.
Ирина Михайловна нащупала трубку.
— Але? Але? Молчание. — Она дунула, никто не ответил. — Возьмите вы, Петр Семенович.
— Да, — по-деловому сказал Лобанов. На другом конце провода не ощущалось ничьего присутствия. — Черт знает что, — выругался он.
— А не странно ли, — сказала Ирина Михайловна, принимая от Лобанова трубку, — что так тихо. Не только в трубке. Вообще. Прислушайтесь. Обычно из лифта, когда он стоит, слышны разговоры, шаги на лестнице. А тут — как в герметической камере.
Тишина и впрямь была такой, будто их замуровали под землею.
— Неприятно все это, — тихо сказал Петушков.
— Ну-ка, постучите трубкой в стенку, — предложил Лобанов.
— Где-то под ногами мои яблоки, — жалобно сказала Ирина Михайловна. Хоть одно бы…
Это всех несколько встряхнуло, стали шарить по полу, поднялась суматоха. Петушков и Селюков больно стукнулись лбами, что вызвало легкий смешок.
Лобанов осветил пол зажигалкой и заодно взглянул на часы.
— Без пяти девять. Стоят, что ли? — он приложил часы к уху.
У остальных они показывали такое же время и тоже стояли. Выходило, что как только лифт застрял, так и часы остановились.
— Бензином пахнет, — Ирина Михайловна скривилась, и Лобанов погасил зажигалку, с неудовольствием чувствуя, что его начинает лихорадить.