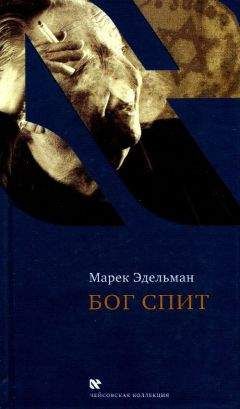Тем временем на костре Зубр кончил петь - видно, исчерпал себя - и наступившим молчанием воспользовался Краснопольский. Он, зачем-то взяв гитару в руки, читал энергичные стихи, яростно налегая на букву "р", а-ля Высоцкий. Я оказался рядом с Зубром и слышал, как тот негромко сказал:
- Он, конечно, м.., но стихи читает здорово.
Потом гитару взял Витька, но то ли он ещё не отошел до конца, то ли желающих слушать не было, - что-то у него не пошло. Он опять попытался спеть "Лошадок", видимо, забыв, что их уже пели, но никто его не поддержал, он пропел пару куплетов и завял. Потом он спел себе под нос ещё две-три песни, и мы решили, что пора идти спать.
Но прежде чем сделать это, мы распрощались с Краснопольским. Он решил уехать прямо сейчас, на первой электричке, и не ждать до утра. Мы обменялись с ним рукопожатиями, и он удалился, походкою твердой шагая по хляби. И весь такой гордый, и весь такой с дипломатом.
Я долго пытался поудобнее устроиться на жестких пенках и соорудить что-нибудь вроде подушки под голову, когда у соседнего костра какие-то женщины запели щербаковскую "Душу".
- Я не могу, - страдальчески сказал Витька. - Меня сейчас опять тошнить начнет! - и с этими словами он выскочил из палатки, подбежал к костру, отобрал у этих дам гитару и спел эту песню так, как по его мнению, её было нужно петь. После чего возвратился, удовлетворенный, и мы стали засыпать. Поначалу было прохладно и неуютно, и едва я закрывал глаза, опять начиналась "звездная болезнь", и меня начинало мотать по Вселенной из стороны в сторону. Но потом я сдвинулся немного, прижался к боку лежавшей между мной и Витькой Аленки и потихоньку сумел заснуть.
10.
Утром я, как всегда, проснулся раньше всех, и когда окончательно продрал глаза, вылез наружу. Голова трещала и болела, и ноги не желали стоять прямо, но я решил, что это пройдет, особенно, если сейчас хлебнуть винца. Ждать, когда проснется Витька, было бессмысленно, поэтому я немедленно направился к своему шмотнику, по-прежнему стоявшему под деревом, сунул в него руку, но ничего не обнаружил. Я удивился, пошарил повнимательней, но опять безрезультатно. Тогда пришлось приступить к интенсивным поискам. Я вышвырнул из шмотника все наружу, заглянул в карманы и окончательно убедился, что бутылки нет.
- Блядские хоббитцы, где бутылка? - пробормотал я и почесал в затылке. - Не оставили горлуму вкус-с-сненького вина. Ничего не понимаю. Куда она делась? Мы же её вчера не выпили! - я хорошо помнил, что вчера, уже немного протрезвев, я её находил - значит, мы не могли её выпить, когда у меня отшибло память. Я засунул голову в палатку и спросил:
- Витька, ты не знаешь, куда делась бутылка вина?
- Не знаю, - проворчал он спросонья. - А что?
- Да исчезла куда-то. Не могу найти.
- Может, вчера выпили?
- Не выпивали - я точно помню.
- Ну значит, стащили, - предположил он.
Стащили! Ни хрена себе! Конечно, я как всегда, сам дурак, надо было все бутылки убрать в палатку, да и шмотник тоже, но я всегда был склонен несколько идеализировать КСП и не подозревал, что в лесу есть люди, способные шуровать по чужим шмотникам. Сразу стало очень грустно и тоскливо. А тут ещё и зябкий ветерок дует, и мелкий дождик закапал, и поплыли всякие сожаления о том, что вчера все-таки нажрался как свинья, хоть и собирался только "других угощать", и из-за этого не помню, что происходило - а такие пьяные провалы в памяти очень неприятная штука, возникает какое-то странное ощущение, что у тебя как будто стащили кусок жизни, а потом постепенно, как на недоэкспонированной фотобумаге, в памяти проступают обрывки каких-то разговоров, и вспоминая их, злишься на себя за то, что нес такую чушь - и массу возможностей не реализовал: к Новгородцеву не сходил за джином, у Адама не вытребовал обещанное амаретто, и про Инку забыл напрочь, и по кострам не походил, песен почти не слушал, да к тому же чем дальше, тем больше меня мутило. И у меня возникло желание немедленно взять шмотник, собраться и уйти отсюда, уехать домой, и больше никогда ни за что ни на какие слеты, где крадут чужое вино и спаивают несчастных идиотов, не ходить. И может быть, я бы действительно уехал, но уж больно не хотелось ехать в одиночку. Я опять залез в палатку и спросил у Витьки, когда они собираются ехать в Москву.
- Аленке надо к четырем домой вернуться, а до тех пор нечего торопиться, - ответил он.
Тогда я отправился погулять в надежде, что может быть, найду каких-нибудь знакомых, которые собираются уезжать, и присоединюсь к ним. Все тропинки за ночь развезло окончательно, я брел по сплошному морю чавкающей жижи, а дождик гнусно стучал по капюшону штормяги. Так я, еле волоча ноги, добрался до сцены и пошел дальше по тропинке, ведущей к станции. Здесь я увидел Инку. Она с рюкзаком за плечами шла в компании нескольких людей.
- Уже уезжаешь? - спросил я её.
- Да, - ответила она. - Дел очень много, надо в Москву ехать.
Понятно. У нее, как всегда, много дел. Так я с ней толком и не пообщался. Осталось только хмуро с ней распрощаться и побрести обратно.
Потом мне попался Лесник.
- С хмутром, Юрик! - заорал он ещё издали. - У тебя ничего выпить нет?
- С хмутром, с хмутром, - еле пробормотал я в ответ. Для меня это было действительно "хмутро", а он с виду был так же деятелен и энергичен, как всегда, и не чувствовалось, что ему позарез надо опохмелиться. Он составлял коктейль "утренний" - то есть из всех бутылок, валявшихся вокруг костров под деревьями и кустами, сливал последние капли в свою флягу. Найдя очередную бутылку, он нагнулся, поднял её, выцедил из неё то, что ещё оставалось на дне, и вдруг заорал:
- Как я всех тихо ненавижу!
У меня не хватило сил даже на то, чтобы улыбнуться. Я брел к нашему костру, и тут случилась неприятная вещь: я не мог его найти. Вчера ночью, да ещё в пьяном виде, я выходил на него как на маяк, а сейчас не мог найти его, и все. Только выйдя к ручью, я от него сумел отыскать костер "Восемнадцати", а потом и нашу палатку. Я подошел к костру, чтобы погреться, но от дыма меня ещё больше замутило и стало совсем плохо. Я отошел в сторону, полагая, что сейчас меня начнет тошнить, и станет чуть полегче, но ничего не произошло. Я вспомнил одну из легенд о Витьке, как на каком-то особенно пьяном слете он стоял на четвереньках в палатке и умолял всех, кто туда заглядывал: "Помогите мне сблевать!" Сейчас мне самому было впору об этом просить. Это был кошмар какой-то: сколько я ни напрягался, как ни засовывал пальцы в горло, наружу ничего не выходило. Тогда я вернулся к нашей палатке и встал около неё под деревом. Капал дождик, мне было холодно и муторно, я стоял с самым что ни на есть разнесчастным видом и про себя жаловался на судьбу и ругался. Блядские хоббитцы! Никогда больше в лес! Никогда больше в лес!