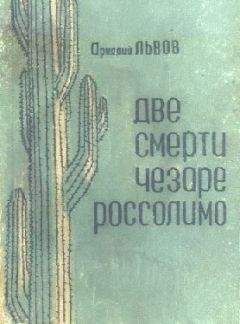Едва заглох мотор лимузина и щелкнула за мною дверца, я почти мгновенно погрузился в тишину. Беззвучно, но совершенно явственно, как паутина на солнечном свету, рвались нити, которые извне пронизывали мое тело, и я ощущал его снова в давно забытом рисунке, где нет ломаных, нет внезапных обрывов, а есть только мягкие, плавные, чуть-чуть утяжеленные линии.
Мне было хорошо, по-настоящему хорошо, вергилиевские буколики, которые я уже добрые двадцать лет не вспоминал, поднялись из глубин, отделенных четким слоем, четкой границей от всего, что окружило их за двадцать лет, прошедших после детства. Я услышал голос Энея:
…Идем, куда судьбы влекут и влекут вновь:
Что там ни будь, каждый рок победить, лишь снеся его, можно.
Эти стихи были неприятны мне, неприятны своей многозначительностью и откровенной претензией на пророчество, хотя по форме они были вроде всего лишь заключением мудреца, чуждого поспешности и суеты.
Мой коттедж находился в юго-западном углу. От двух других, которые я миновал по пути, он отличался только цветом — оранжевый с густым золотистым отливом. Если бы синьор Россо был моим другом, братом или даже самим мною, он едва ли оказался бы удачливее в выборе цвета. Оранжевый дом, окруженный багрянцем десятиметровых кактусов, был из мира моего детства, а откуда он пришел в мое детство, этого я никогда не знал. Да и зачем, собственно, знать, если я ощущал это всегда как точное, не требующее никаких объяснений и толкований. Солнце — всегда солнце, море — всегда море, земля — всегда земля. Разве это может быть непонятно?
В гостиной было плюс двадцать два градуса, в кабинете — восемнадцать, психрометры показывали девяносто три и сто процентов влажности. Окна, оборудованные светофильтрами и жалюзями, захватывали всю наружную стену. В гостиной, слева от окна, четверть стены занимал телевизионный экран. Рядом с экраном, один над другим, расположились два эскиза в белых рамках: Бонингтон, «Торговля рыбой на морском берегу», и Ван-Гог, «Лодки в Сен-Мари». Я думаю, ничто не могло бы мне сейчас дать более полного ощущения равновесия, чем эти рисунки с простыми и четкими, почти как в чертеже, линиями.
Трех четвертей часа было мне вполне достаточно, чтобы привести себя в порядок и освоиться в новом моем жилище. Право, никогда прежде я не представлял себе, что за тридевять земель от Италии, в другом полушарии, на другом континенте я с такой поразительной быстротой смогу восстановить утраченное чувство покоя и уюта. Возможно, этим чувством я целиком обязан тем мостам, которые здешнему хозяину, синьору Джулиано, удалось перебросить в мое детство, но каким бы путем ни было это достигнуто, для меня главным оставалось ощущение безмятежности и равновесия.
Сидя в кресле, я наслаждался тишиной и рассматривал огромный кактус за моим окном. Он напоминал мне что-то уже виденное, но в бесконечно отдаленные годы, расстояние до которых измерялось даже не сотнями, а тысячами лет. Я не понимаю, откуда идет это чувство тысячелетней давности — от знаний, которыми мы начиняемся в детстве, когда и реальный и воображаемый миры имеют одну протяженность во времени и пространстве, или это извечное чувство человека, запечатлевшего в себе бесконечную дорогу предков. В зависимости от настроения, я склоняюсь то к одному, то к другому объяснению. Сегодня я, бесспорно, предпочел бы второе и нашел бы, возможно, даже нокые обоснования ему, но внезапно меня прервали, окликнув по имени:
— Синьор Умберто, вас ждут в главном корпусе.
Голос был женский — мягкий, вкрадчивый, как у ночного диктора.
— Иду, — ответил я.
— Пожалуйста, синьор. Вас встретят у входа.
Меня проводили на третий этаж, и здесь, у самой лестницы, я впервые увидел синьорину Зенду Хааг. Она взяла меня под руку, говоря, что бессмысленны всякие церемонии представления, если и без того люди отлично знают друг друга. Да, спохватилась она, может быть, синьор Умберто устал и предпочел бы отложить разговор до утра? Нет? Ну, отлично, тогда займемся делом.
Все левое крыло здания принадлежало отделу биохимии. Прежде, объяснила она, хозяйкой была здесь некая Зенда Хааг, теперь отдел перейдет под начало более достойного — синьора Умберто Прато из Болоньи. Мне показалось уместным запротестовать, но она молниеносно парировала выпад, который я еще только собирался сделать:
— Прато, я всего лишь передаю вам распоряжение Джулиано.
Аппаратура, посуда, реактивы — все было в идеальном, я бы сказал, даже чересчур идеальном состоянии, и требовалось серьезное усилие, чтобы осознать — здесь не образцовая выставка, не отдел музея, а рабочая лаборатория.
В отсутствие шефа Зенда занимала его кабинет — на этом настаивал сам Джулиано. Откровенно говоря, синьорина Хааг выглядела здесь безукоризненно — ничего от женщины-начальницы, воплощенной идеи эмансипации, которая становится уже чем-то больше, нежели просто эмансипация. И мне было странно слыщать, что чувствует она себя здесь неловко, что освоение нового жизненного пространства, даже рядом со своей комнатой, дается ей очень нелегко. Поэтому, кстати, она всегда восхищается людьми, для которых не существует фетиша насиженных мест. К примеру, синьором Умберто.
— Позвольте, — возразил я, — а вы сами…
— О, нет, — она положила обе руки на стол, откровенно намечая зону запрета, — я родилась здесь, и моя мать тоже, а отец — европеец. Отец очень хотел вернуться в Европу. Кстати, Джулиано тоже, но прежде, до смерти брата.
— А теперь?
— Теперь — нет, — сказала она решительно, — теперь в Европе делать нечего.
На стене, прямо против стола, висел портрет Чезаре Россолимо — краски были еще свежие, как будто последний мазок художник положил нынче утром
— Послушайте, — приглушив почти до шепота свой голос, Зенда всматривалась в портрет, но у меня было нелепое ощущение, что она всматривается в меня, а не в Чезаре, висящего на стене, — вы в самом деле убеждены, что Россолимо мертв?
Не знаю, что изображало в эту минуту мое лицо, но чувствовал я себя абсолютным дураком… ну, примерно то же мог бы я чувствовать, усаживаясь в автомобиль, в то время как шофер спрашивает меня, в самом ли деле я уверен, что это автомобиль, а не, скажем, слон, крокодил или теплоход.
— Синьорина, — я попытался улыбнуться, — институт направил меня для опознания Чезаре.
— И вы?..
— Да, я лично собственными своими глазами видел в морге Чезаре. А потом на имя Кроче, шефа лаборатории, прислали урну с прахом Чезаре.
— Да, — кивнула она, — я знаю. А как поживает, кстати, наш коллега Витторио Кроче?