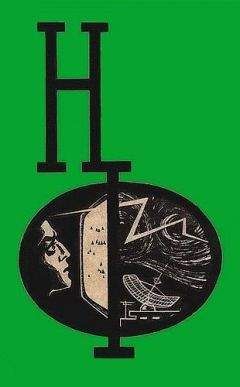— Включить извилину добрых и смелых дел!
Прозвучала новая команда:
— 319Р — под перезапись.
Теперь и над Чебукиным опустился алюминиевый колпак. В наушниках шлемофона послышалось:
— Включить административно-руководящие извилины.
— Включить извилину теории эстетики!
— Включить извилину добрых и смелых дел!
— Включить извилину любви!
— «Таню ведь я любил, очень любил, но…» — думал Чебукин.
Вдруг показалось очень важным вот сейчас же вспомнить двадцать пять добрых дел. А в голову лезли сущие пустяки, к тому же стародавние. Чебукин снизил себе норму с двадцати пяти до десяти добрых дел, но и то последние два номера представлялись сомнительными.
Лет шесть назад он отменил приказ об увольнении курьера с длинной фамилией, которая никак не припоминалась. Но курьер почему-то исчез.
Он тогда все собирался спросить заместителя, как это курьер все-таки исчез, да, помнится, не собрался.
А в детстве был случай, когда отец дал ему большой кусок пирога и с начинкой, а Глашке — младшей сестренке, нелюбимой в семье, — маленький кусок и почти без начинки. Он отдал свою порцию Глашке — «на, подавись» Чем не доброе дело? Только, помнится, в тот раз у него болел живот, даже смотреть на жирный пирог было тошно А с другой стороны, доброе дело остается добрым независимо от того, болит живот или нет.
— Внимание, 319Р, — приступаем к операции выбор. биса, — прозвучало в шлемофоне.
Спереди отодвинулась дверца, образовав прямоугольный просвет двух метров высоты и шестидесяти сантиметров ширины.
Послышалось:
— Предлагается на выбор тридцать высококачественных, утвержденных бисов, различающихся чертами лица, расцветкой глаз и волосяных покровов, фасоном костюма, Напоминаем: выражением лица бис не располагает, оно будет придано бису в процессе перезаписи посредством копировки оригинала. 319Р — приготовьтесь:
Дзинь… Впереди возникла цифра «1». Шагнув слева направо, показался бис.
Он стоял под своим номером, вытянувшись как в строю, одетый в отличный черный костюм. Лицо у него было снабжено всем необходимым — носом правильной формы, полногубым ртом, серыми глазами под несколько нависшими бровями, черными с еле заметной сединой волосами, зачесанными назад, умеренно низким и покатым лбом, — но, не обладая выражением, оно, при этой полнокомплектности, производило жуткое впечатление.
— Сгинь! Сгинь! — услышал; Чебукин собственный свой неприлично дрожащий голос.
У биса совсем не было выражения лица, даже такого, каким снабжаются, например, манекены в провинциальных парикмахерских или гипсовые фигуры при въезде в санаторий.
Дзинь. Бис в черном костюме шагнул вправо, подтянул ногу и скрылся из глаз. Загорелась цифра «2», и под ней вытянулся бис чрезвычайно моложавый, с косо подбритыми височками, в клетчатом костюме с узковатыми брюками.
То же абсолютное, трудно предстввнмое и не поддающееся описанию отсутствие выражения объединяло черного седеющего биса с бисом клетчатым.
Чебукин закрыл глаза, испытывая почти ужас. «Дзинь… Дзинь… Дзинь», — доносилось до него время от времени, каждый раз этот звук вызывал тяжелый вздох.
Как человек, сознающий определяющее значение дисциплины, он, наконец, заставил себя взглянуть. Под светящейся цифрой «11» замер полноватый бис с явно наметившимся брюшком, приличным двойным подбородком, серыми глазами и также сероватыми редеющими волосами. Ему, этому бису, пристало бы выражение важности, солидности, благожелательства без тени панибратства. Но ни этого необходимого по другим статьям выражения, ни какого-либо другого выражения не было.
— Сгинь! — бессознательно шептал Чебукин, снова плотно зажмурив глаза.
«Дзинь… Дзинь… Дзинь…» — пронзительно раздавалось в ушах.
Звонки оборвались.
— Назовите выбранный номер! — распорядился голос в шлемофоне и через минуту нетерпеливо повторил: — Назовите выбранный номер!
— Семнадцать, — наугад сказал Чебукин и взглянул. Перед ним, удобно откинувшись в кресле, расположенном напротив, сидел бис крайне, даже неприлично моложавый, в светлом бежевом костюме, с полубачками и черными усиками, концы которых были загнуты вверх, и отчасти двусмысленной улыбкой, также несколько загнутой вверх.
— И это мой бис? — с горечью сам себе сказал Че-букин. — Дожил. Такой бис соответствовал бы этому самому Анджею Люсьену, даже Кольке, в крайнем случае работнику по торговой части, но никак не профессору эстетики и директору Института эстетики… Дожил…
Бис сидел напротив, глядя в глаза, и даже двусмысленная, загнутая вверх улыбка не сообщала ему ни малейшего выражения. «Скорее это проект улыбки; не проект, а проектное задание», — мелькнуло в голове Чебукина.
— 319Р, приступаем к перезаписи! Приготовьтесь: приступаем к перезаписи, — раздался в шлемофоне голос Люстикова.
Твердо помню, что когда я закрыл глаза, в комнате никого не было. Очнувшись, я увидел, что за столом трое. Это были Я-нынешний, Я-вчерашний и Я-позавчерашний. Мы холодно поздоровались И приступили к беседе.
Из записок неизвестного
Шлемофон, щелкнув, отключился. Под алюминиевым куполом воцарилась ничем не нарушаемая тишина.
Чебукин сидел неподвижно, а электронный щуп с трудно представимой скоростью — ста пятидесяти килогерц нырял в мозговые извилины, прослеживая их одну за другой.
Накопленная в течение жизни информация из нервных клеток попадала на усилитель и самопишущим устройством заносилась на перфорированные ленты мыслеприемника Чебукина-биса.
По временам, отогнав дремоту, Чебукин бросал быстрый взгляд на своего визави. Лицо биса постепенно приобретало выражение: загнутые усики выпрямлялись, улыбка развивалась в спокойную, благожелательную и одновременно нелицеприятную, глаза вбирали начальственную проницательность. Но странно, знакомое это, тысячи раз выверенное у зеркала, выражение на чужом лице производило впечатление даже как бы гулкой пустоты.
«Отрастил усики, таракан, а не профессор», — неприязненно подумал Чебукин о своем бисе.
Щуп безболезненно принимал информацию, но иногда электронное острие его задевало стенки клеток коры, отражалось от них, и тогда вспыхивало в памяти давно минувшее.
Перед закрытыми глазами Чебукина встало лицо Тани, такое, каким он видел его самый последний раз, в том году, когда по чрезвычайным обстоятельствам освободилась кафедра эстетики, и ему, совсем молодому научному сотруднику, нежданно-негаданно предложено было занять эту кафедру, при том, однако, условии, что он расстанется с Таней.