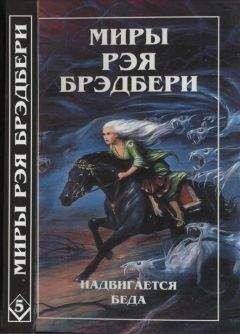Мистер Гласс опустился на стул. Он даже не запыхался после столь вдохновенной и долгой речи.
Тервиллиджер помалкивал.
Клеренс молча прогулялся по комнате, медленно обошел по кругу мистера Гласса. Прежде багровое лицо продюсера было теперь скорее бледным. Наконец Клеренс остановился напротив Тервиллиджера.
Его глазки беспокойно бегали по долговязой фигуре режиссера.
— Так вы это рассказали Глассу? — спросил он слабым голоском.
Кадык на шее Тервиллиджера прогулялся вверх-вниз.
— У него хватило духу только со мной поделиться, — объяснил мистер Гласс. — Застенчивый парень. Все его беды — от застенчивости. Вы же сами видели — он такой неразговорчивый, такой безответный. Ни разу не огрызнется, все держит в себе. А в глубине души любит людей, только сказать стесняется. У замкнутого художника один способ выразить свою любовь — увековечить в образе. Тут он владыка!
— Увековечить? — недоверчиво переспросил Клеренс.
— Вот именно! — воскликнул старик-юрист. — Этот тираннозавр — все равно что статуя на площади. Только ваш памятник передвижной — бегает по экрану. Пройдут годы, а люди все еще будут говорить друг другу: «Помните фильм „Монстр эпохи плейстоцена“? Там был потрясающий монстр, настоящий зверь — к тому же недюжинный характер, любопытная индивидуальность, горячая и независимая натура. За всю историю Голливуда никто не создал лучшего чудовища. А все почему? Потому что при создании чудища один гениальный режиссер имел достаточно ума и воображения опереться на черты характера реального человека — крутого и сметливого бизнесмена, великого магната киноиндустрии». Вот как будут говорить люди. Мистер Клеренс, вы входите в историю. В фильмотеках будут спрашивать фильм про вас. Клуб любителей кино — приглашать на встречи со зрителями. Какая бешеная удача! Увы, с Иммануилом Глассом, заурядным юристом, подобной феерии произойти не может. Короче говоря, на протяжении следующих двухсот или даже пятисот лет ежедневно где-нибудь да будет идти фильм, в котором главная звезда — вы, Джо Клеренс.
— Еже... ежедневно? — мечтательно произнес Клеренс. — На протяжении следующих...
— Восьмисот лет. А почему бы и нет!
— Никогда не смотрел на это под таким углом.
— Ну так посмотрите!
Клеренс подошел к окну, какое-то время молча таращился на голливудские холмы, затем энергично кивнул.
— Ах, Тервиллиджер, Тервиллиджер! — сказал он. — Неужели вы и впрямь до такой степени любите меня?
— Трудно словами выразить, — выдавил из себя. Тервиллиджер.
— Я полагаю, мы просто обязаны доснять этот потрясающий фильм, — сказал мистер Гласс. — Ведь звездой этой картины является тиран джунглей, сотрясающий своим движением землю и обращающий в бегство все живое.
И этот безраздельный владыка, этот страх Господний, — не кто иной, как мистер Джозеф Клеренс.
— М-да, м-да... Верно! — Клеренс в волнении забегал по комнате. Потом рассеянно, походкой счастливого лунатика направился к двери, остановился на пороге и обернулся: — А ведь я, признаться, всю жизнь мечтал стать актером!
С этими словами он вышел — тихий, умиротворенный.
Тервиллиджер и Гласс разом согнулись от беззвучного хохота.
— Страшилозавр! — сказал старик-юрист. А режиссер тем временем доставал из ящика письменного стола бутылку виски.
После премьерного показа «Монстра каменного века», ближе к полуночи, мистер Гласс вернулся на студию, где предстоял большой праздник. Тервиллиджер угрюмо сидел в одиночестве возле отслужившего макета джунглей. На коленях у него лежал тираннозавр.
— Как, вы не были на премьере? — ахнул мистер Гласс.
— Духу не хватило. Провал?
— С какой стати! Публика в восторге. Критики визжат. Прекрасней монстра еще никто не видал! Уже пошли разговоры о второй серии: «Джо Клеренс опять блистает в роли тираннозавра в фильме „Возвращение монстра каменного века“» — звучит! А потом можно снять третью серию — «Зверь со старого континента». И опять в роли тирана джунглей несравненный Джо Клеренс!..
Зазвонил телефон. Тервиллиджер снял трубку.
— Тервиллиджер, это Клеренс. Я буду на студии через пять минут. Мы победили! Ваш зверь великолепен! Надеюсь, уж теперь-то он мой? Я хочу сказать, к черту контракт и меркантильные расчеты. Я просто хочу иметь эту душку-игрушку на каминной доске в моем особняке!
— Мистер Клеренс, динозавр ваш.
— Боже! Это будет получше «Оскара». До встречи!
Ошарашенный Тервиллиджер повесил трубку и доложил:
— Большой босс лопается от счастья. Хихикает как мальчишка, которому подарили первый в его жизни велосипед.
— И я, кажется, знаю причину, — кивнул мистер Гласс. — После премьеры к нему подбежала девочка и попросила автограф.
— Автограф?
— Да-да! Прямо на улице. И такая настойчивая! Сперва он отнекивался, а потом дал первый в своей жизни автограф. Слышали бы вы его довольный смешок, когда он подписывался! Кто-то узнал его на улице! «Глядите, идет тираннозавр собственной персоной!» И господин ящер с довольной ухмылкой берет в лапу ручку и выводит свою фамилию.
— Погодите, — промолвил Тервиллиджер, наливая два стакана виски, — откуда взялась такая догадливая девчушка?
— Моя племянница, — сказал мистер Гласс. — Но об этом ему лучше не знать. Ведь вы же не проболтаетесь?
Они выпили.
— Я буду нем как рыба, — заверил Тервиллиджер.
Затем, подхватив резинового тираннозавра и бутылку виски, оба направились к воротам студии — поглядеть, как во всей красе, сверкая фарами и благовестя клаксонами, на вечеринку начнут съезжаться лимузины.
The Vacation 1963 год
Переводчик: Л.Жданов
День был свежий — свежестью травы, что тянулась вверх, облаков, что плыли в небесах, бабочек, что опускались на траву. День был соткан из тишины, но она вовсе не была немой, ее создавали пчелы и цветы, суша и океан, все, что двигалось, порхало, трепетало, вздымалось и падало, подчиняясь своему течению времени, своему неповторимому ритму. Край был недвижим, и все двигалось. Море было неспокойно, и море молчало. Парадокс, сплошной парадокс, безмолвие срасталось с безмолвием, звук со звуком. Цветы качались, и пчелы маленькими каскадами золотого дождя падали на клевер. Волны холмов и волны океана, два рода движения, были разделены железной дорогой, пустынной, сложенной из ржавчины и стальной сердцевины, дорогой, по которой, сразу видно, много лет не ходили поезда. На тридцать миль к северу она тянулась, петляя, потом терялась в мглистых далях; на тридцать миль к югу пронизывала острова летучих теней, которые на глазах смещались и меняли свои очертания на склонах далеких гор.