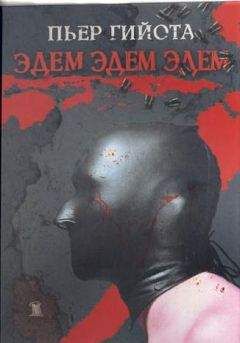И только когда спасательные группы уже возвращались на базу, одна из них на расстоянии ста тридцати километров от берега наткнулась на аэромобиль. Двигатель работал, и совершенно исправная машина висела над волнами. В прозрачной кабине находился только Каруччи. Он был без сознания.
Аэромобиль доставили на базу, и Каруччи поручили заботам медиков. В тот же вечер он пришёл в себя. О судьбе Фехнера Каруччи ничего не мог сказать. Помнил только, что, когда они уже решили возвращаться, он почувствовал удушье. Дыхательный клапан заклинился, и внутрь скафандра при каждом вдохе проникала небольшая порция ядовитых газов.
Фехнер, пытаясь исправить его аппарат, вынужден был отстегнуть ремни и встать. Это было последнее, что помнил Каруччи. Возможный ход событий, по мнению специалистов, был таким. Исправляя аппарат Каруччи, Фехнер открыл фонарь кабины, вероятно, потому, что под низким куполом он не мог свободно двигаться. Это было допустимо, так как кабины таких машин не были герметичными и только защищали от непосредственного воздействия атмосферы и ветра. Во время этих манипуляций мог испортиться аппарат Фехнера, и учёный, потеряв ориентацию, выбрался через открытый купол из машины и свалился вниз.
Такова история первой жертвы океана. Поиски тела — в скафандре оно должно было плавать на поверхности океана — не дали результатов. Впрочем, возможно, оно и плавало. Тщательно прочесать тысячу квадратных километров почти постоянно покрытой лохмотьями тумана волнистой пустыни было просто невозможно.
До сумерек — я возвращаюсь к предшествующим событиям — вернулись все спасательные аппараты, за исключением большого грузового вертолёта, на котором вылетел Бертон.
Он показался над базой примерно через час после наступления темноты, когда о нём уже начали серьёзно беспокоиться. Бертон находился в состоянии нервного шока. Он выбрался из вертолёта только для того, чтобы кинуться бежать. Когда его поймали, он кричал и плакал. Для мужчины, у которого за плечами насчитывалось семнадцать лет космических полётов, иногда в тяжелейших условиях, это было поразительно. Врачи решили, что он тоже отравился.
Через два дня Бертон, который, даже вернувшись к кажущемуся равновесию, не хотел ни выйти хоть на минуту из главной ракеты экспедиции, ни даже подойти к окну, из которого открывался вид на океан, заявил, что желает подать рапорт о своём полёте. Он настаивал на этом, утверждая, что речь идёт о деле чрезвычайной важности.
Его рапорт был рассмотрен советом экспедиции, признан плодом больного воображения человека, отравленного газами атмосферы, и как таковой помещён не в историю экспедиции, а в историю болезни Бертона. На этом всё и кончилось.
Существо дела составлял, очевидно, сам рапорт Бертона — то, что привело этого пилота к нервному потрясению. Я снова начал перекладывать книги, но «Малого Апокрифа» обнаружить не удалось. Я очень устал и поэтому, отложив дальнейшие поиски до утра, вышел из комнаты.
На ступеньках алюминиевой лесенки лежали пятна света, падающего сверху. Значит, Сарториус всё ещё работал. Так поздно! Я подумал, что должен с ним встретиться.
Наверху было тепло. В широком низком коридоре дул лёгкий ветерок. Над вентиляционными отверстиями шелестели полоски бумаги. Двери главной лаборатории представляли собой толстую плиту шероховатого стекла, вставленного в металлическую раму. Изнутри стекло было заслонено чем-то тёмным. Свет пробивался только сквозь узкие окна под самым потолком. Я нажал ручку, но, как и ожидал, дверь не поддалась. Внутри было тихо, и лишь время от времени слышался какой-то слабый писк. Я постучал — никакого ответа.
— Сарториус! — крикнул я. — Доктор Сарториус! Это я, новичок, Кельвин! Мне нужно с вами увидеться, прошу вас, откройте!
Негромкий шорох, словно кто-то ступал по мятой бумаге, — и снова тишина.
— Это я — Кельвин! Вы ведь обо мне слышали?! Я прилетел два часа назад на «Прометее»! — кричал я, приблизив губы к щели между наличником и дверью. — Доктор Сарториус! Тут никого нет, только я! Откройте!
Молчание. Потом едва уловимый шум. Несколько раз что-то лязгнуло, словно кто-то укладывал металлические инструменты на металлический поднос. И вдруг… Я остолбенел. Раздался звук мелких шажков, будто бегал ребёнок. Частый, поспешный топот маленьких ножек. Может… может быть, кто-нибудь имитировал его, очень ловко ударяя пальцами по пустой, хорошо резонирующей коробке?
— Доктор Сарториус! — заревел я. — Вы откроете или нет?!
Никакого ответа, только снова детская трусца и одновременно несколько быстрых, плохо слышных размашистых шагов. Похоже было, что человек шёл на цыпочках. Но если он шёл, то не мог одновременно имитировать детские шаги? «А впрочем, какое мне до этого дело!» — подумал я и, уже не сдерживая бешенства, которое начинало меня охватывать, заорал:
— Доктор Сарториус!!! Я не для того летел сюда шестнадцать месяцев, чтобы посмотреть, как вы разыгрываете комедию! Считаю до десяти! Потом высажу дверь!!!
Я очень сомневался, что мне это удастся.
Струя газового пистолета не слишком сильна, но я был полон решимости выполнить свою угрозу тем или иным способом. Хотя бы мне пришлось отправиться на поиски взрывчатки, которая наверняка имелась на складе в достаточном количестве. Я сказал себе, что не должен уступать, что не могу играть этими меченными безумием картами, которые вкладывала мне в руки ситуация.
Послышался странный звук, словно кто-то с кем-то боролся или что-то толкал, занавеска внутри отодвинулась примерно на полметра, гибкая тень упала на матовую, как бы покрытую инеем плиту двери, и хрипловатый дискант сказал:
— Я открою, но вы должны обещать, что не войдёте внутрь.
— Тогда зачем вы хотите открыть? — крикнул я.
— Я выйду к вам.
— Хорошо. Обещаю.
Лёгкий щелчок поворачиваемого в замке ключа, потом тёмная фигура, заслонившая половину двери, старательно задёрнула занавеску и проделала целую серию каких-то непонятных движений. Мне показалось, что я услышал треск передвигаемого деревянного столика, наконец дверь немного приоткрылась, и Сарториус протиснулся в коридор.
Он стоял передо мной, заслоняя собой дверь, очень высокий, худой; казалось, его тело под кремовым трикотажным комбинезоном состоит из одних только костей. Шея была повязана чёрным платком, на плече висел сложенный вдвое, прожжённый реактивами лабораторный фартук. Чрезвычайно узкую голову он держал немного набок. Почти половину лица закрывали изогнутые чёрные очки, так что глаз не было видно. У него была длинная нижняя челюсть, синеватые губы и огромные, как будто отмороженные, тоже синеватые уши. Он был небрит. С запястьев на шнурах свисали перчатки из красной резины. Так мы стояли некоторое время, глядя друг на друга с явной неприязнью. Остатки его волос (он выглядел так, будто остригся под ёжик) были свинцового цвета, щетина на лице — совсем седая. Лоб такой же загорелый, как и у Снаута, но загар кончался примерно на середине лба чёткой горизонтальной линией. Очевидно, на солнце он постоянно носил какую-то шапочку.