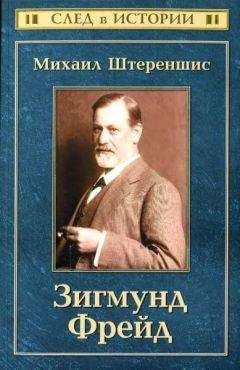В углу, на гнилом диване, уютно подсвеченном теплыми отсветами от стен, лежала одна из девочек в точно такой же ночной рубашке, как-то жутко съежившись, и по одной этой нелепой ее позе было ясно, что она мертва. Стена над диваном была усеяна голубыми отпечатками детских рук - талисман, оберегающий в этой части света дом от сглаза. Других декораций не было, обычная комната в арабском квартале.
Мы стояли неподвижно, Нессим и я, добрых полсекунды, зачарованные этой сценой, ее жутковатой красотой - как на страшной картинке, на цветной гравюре из копеечной викторианской Библии, сюжет которой непостижимым образом исказился и переместился во времени. Жюстин хрипло дышала, как обычно, когда была на грани слез.
По-моему, мы оба одновременно набросились на нее и выволокли на улицу, по крайней мере я помню только, как мы, уже доехав до моря, неслись вдоль по Корниш в чистом бронзовом свете луны и как отражалось в зеркале заднего вида печальное и сосредоточенное лицо Нессима; Жюстин молча сидела рядом с ним, глядя на серебряные разломы волн, и курила сигарету, позаимствованную из его нагрудного кармана. Потом в гараже, прежде чем мы вышли из машины, она нежно поцеловала Нессима в глаза.
* * *
Теперь я склонен видеть во всем этом лишь увертюру к первой настоящей встрече лицом к лицу, когда принесшее нам столько счастья взаимопонимание дружба и радость осознавать, что мы трое смотрим на мир одинаково, рассыпалось и стало чем-то иным, не любовью, нет - откуда бы? - но какой-то рассудочной одержимостью друг другом, в которой голод пола играл самую последнюю роль. Как мы могли допустить, чтобы чувство это стало реальностью, - мы, столь прочно связанные "нашим" опытом, мы, прошедшие уже сквозь непогоду и круговорот сезонов, нездешних любовных разочарований.
Ранней осенью по вечерам лавры беспокойно фосфоресцируют в сумерках, и сквозь летнюю пыльную одурь ощущаешь пальцы осени на лице, будто трепещут крылья бабочки, покидающей куколку. Мареотис становится лимонно-розовым, и топкие его берега расцветают теплыми звездами проросших сквозь спекшийся ил анемонов. В один прекрасный день, когда Нессим был в Каире, я позвонил в дверь его дома, чтобы взять несколько книг, и, к своему удивлению, застал в студии одинокую Жюстин, латавшую старый свитер. Она вернулась в Александрию ночным поездом, оставив Нессима сидеть на каком-то важном совещании. Мы попили чаю, а потом, подчиняясь внезапному импульсу, собрали купальные принадлежности и поехали через ржавые шлаковые холмы Мекса на песчаные пляжи за Бург-эль-Арабом, сверкающие в розово-желтом свете быстро гаснущего дня. Пустынное море глухо рокотало на мокрых песчаных коврах цвета окисленной ртути; мы говорили, и этот глубокий мелодичный ритм был частью нашей беседы. Мы брели по колено в парном молоке и суматошной ряби мелких заводей, то и дело наступая на вырванные с корнем и выброшенные морем губки. Помню, по дороге мы не встретили никого, если не считать подростка-бедуина с проволочной клеткой на голове, полной пойманных на клей птиц. Сонная перепелка.
Мы долго лежали рядом в мокрых купальных костюмах, впитывая кожей последние тусклые солнечные лучи и ласковую вечернюю прохладу. Я прикрыл глаза, Жюстин (как ясно я ее вижу!) оперлась на локоть, глядя на меня из-под руки. Была у нее такая привычка - когда я говорил, она полунасмешливо следила за моими губами, неотрывно, почти нахально, словно ждала, что я вот-вот оговорюсь. Если и в самом деле все началось именно в тот момент, то я, каюсь, совершенно не помню, о чем шла речь, остался только ее взволнованный хрипловатый голос и одинокая фраза вроде: "А если это случится с нами - что ты на это скажешь?" Я не успел ответить, она наклонилась и поцеловала меня - поцеловала насмешливо, с вызовом, в губы. Это было так неожиданно - я повернулся к ней, не зная, смеяться мне или протестовать, но с этой минуты ее поцелуи стали похожи на невероятно мягкие, словно задыхающиеся, удары, запятые между выдохами неудержимого смеха, в ней закипавшего, - насмешливого нервного смеха. Помню, меня поразило, что она была похожа на очень напуганного человека. Если бы я сказал: "С нами этого случиться не может", - она бы ответила: "Но давай предположим. А вдруг?" А затем - вот это я помню отчетливо - ее охватила мания самооправдания (мы говорили по-французски: язык в ответе за национальный характер); и в промежутках между задыхающимися половинками секунд, когда ее сильный рот искал мои губы, а эти грешные смуглые руки - мои руки: "Это не похоть и не прихоть. Мы слишком хорошо знаем этот мир: просто нам нужно кое-что узнать друг через друга. Что это, а?"
Что это было? "Ну, и куда мы забрели?" - помню, спросил я, представив высокую, по-пизански нависшую над нами фигуру Нессима на фоне вечернего неба. "Не знаю", - сказала она с отчаянной, безнадежной покорностью, упрямо не желавшей покидать ее лицо и голос. "Не знаю". - И она прижалась ко мне, как прижимают ладонь к ушибленному месту. Она словно пыталась стереть в порошок самую мысль о моем существовании и в то же время в хрупком, дрожащем облачке каждого поцелуя находила некое болезненное прибежище - холодная вода на растянутые связки. Как ясно видел я в ней в тот миг дитя Города, Города, повелевающего женщинам своим, от века обреченным охотницам за нечаянным, за нежеланным, вожделеть не наслаждения, а боли.
Она встала и пошла прочь по длинной изогнутой линии пляжа, медленно переходя вброд озера жидкой лавы; и я подумал о том, как из каждого зеркала в спальне ей улыбается красивое лицо Нессима. Вся сцена, только что нами разыгранная, уже обрела для меня расплывчатые контуры сна. Помню, я удивился, совершенно трезвым взглядом окинув собственные дрожащие руки, пытавшиеся прикурить сигарету; потом я встал и пошел за ней следом.
Но когда я догнал ее и остановил, лицо, обернувшееся ко мне, было лицом больного демона. Ярость ее взметнулась, как пружина: "Ты думал, я просто хотела заняться любовью, да? Господи! неужто мы этим еще не объелись? Почему ты сразу не понял, что я чувствую? Почему?" Она топнула ногой о мокрый песок. Нет, под ногами у нас не разверзлась каверна, скрытая под поверхностью земли, по которой мы столь уверенно ступали, - хуже. Словно обвалился во мне, в самой сердцевине, давно забытый штрек. Я понял: наш безудержный и бестолковый поток идей и чувств пробил проход к самым дремучим дебрям наших душ; и мы стали-таки сервами, рабами, обладателями тайного знания, того, которое навеки отпечаталось в нас, - а иначе ни увидеть его, ни расшифровать, ни понять - за пределами видимого спектра. (Как мало тех, кто видит в этих красках, как редко нам доводилось их встречать!) "В конце концов, - помнится, сказала она, - это не имеет ничего общего с сексом". И я снова едва поборол желание рассмеяться, хоть и признал в ее фразе отчаянную попытку оторвать плоть от послания, во плоть облаченного. Мне кажется, так влюбляются банкроты. Я увидел то, что давно уже должен был увидеть: наша дружба отцвела, и плод созрел; мы оказались совладельцами друг друга отчасти.