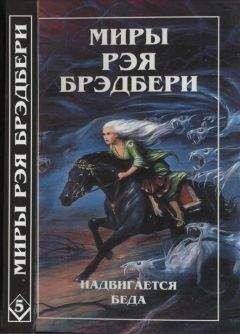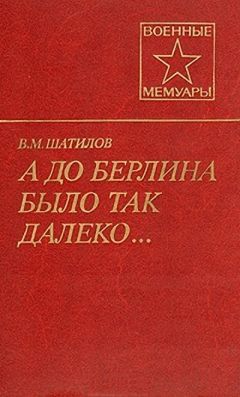– Но как? – с недоумением спросила я Алевтину.
На талии у меня так называемая Филумана, может быть, и сошлась бы, но снизу ее не натянешь – бедра не пройдут, сверху тоже – плечи застрянут.
– Филумана надевается на шею, как ожерелье, – ничего не выражающим голосом пояснила Алевтина.
Ожерелье? Ну это вряд ли… Поясок, свисающий с шеи, не будет смотреться – как бы красив он ни был сам по себе.
– А вы попробуйте, – тускло произнесла дарительница.
Ее спокойствие мне не понравилось. Кажется, сейчас у отвергнутой любовницы вновь начнется истерика. Пора звать Лизавету.
– Пожалуйста, могу и попробовать, мне нетрудно, – легко согласилась я и надела Филуману.
Поясок повис на шее, как на колышке. Алевтина безотрывно глядела на меня.
– Видите, ничего интересного, – сообщила я ей и уже собиралась снять поясок – даже руки подняла, но не успела.
Змея ожила. Раздалось звонкое зудение, как будто туча комаров влетела в комнату. Поясок заискрился вспышками разрядов – и его внезапно раскалившаяся петля поползла по моей груди вверх. Он сокращался, затягивался на шее, как удавка на висельнике.
– Ай! – вскрикнула я, пытаясь ухватиться за его скользкий край, больно жалящий разрядами, и сорвать эту гадость.
– Поздно, – спокойно и даже как-то лениво проговорила Алевтина. – Ты сама взяла Филуману, Бог видел – я тебя не неволила, сама ты на себя ее надела, вот сама и выбрала…
Но что я выбрала, она договорить не успела. Вспышки искр прекратились одновременно с зудением, змея вновь замерла, успокоившись и уютно прильнув к моей шее.
Я повела головой направо-налево. Филумана обвивала меня плотно, но никаких неудобств не доставляла. А когда я погладила ее поверхность, то отозвалась на прикосновение приятным теплом. Если бы не пережитый ужас, я бы, наверно, засмеялась от удовольствия.
Глухой стук раздался со стороны Алевтины. Она упала на пол и теперь лежала в глубоком обмороке, нелепо выгнувшись возле ножки кресла.
– Лизавета! – позвала я.
– Что, что, княжна?! Эта потаскуха вас обидела? – закричала моя верная кандидатка в первые служанки, разъяренной фурией появляясь на пороге, и вдруг смолкла на полуслове.
Я решила было, что она, по своему обыкновению, впала в столбняк от зрелища поверженной Алевтины, но когда подняла глаза, то обнаружила, что Лизавета, открыв рот, пялится на меня. Вернее, на странный поясок по имени Филумана, дружески обнимающий мою шею.
– Нравится? – спросила я, довольная произведенным эффектом.
Однако оказалось, что до настоящего эффекта было еще далеко.
Снова раздался глухой стук об пол. И произвела его уже Лизавета. Она не свалилась в обмороке, она всего лишь упала на колени. Передо мной.
– Княгиня, – благоговейно вымолвили ее непослушные губы, – Госпожа.
Это было что-то новенькое. Я как-то уже привыкла быть княжной, но княгиней? Да и госпожой в придачу? Так меня еще пока никто не называл. О Георге – да, говорили, что он господин, а меня все больше по-простому – княжна да княжна…
– Дозволено ли будет мне позвать служанок, чтобы убрать убитую Алевтину? – сдавленно прошептала Лизавета.
– С чего это она – убитая? – с недоумением воззрилась я на коленопреклоненную Лизавету. – Кто это ее убил?
– Вы, госпожа, – последовал уверенный ответ. – Она вас расстроила, и вы ее убили.
– Что за бред?! – аж поперхнулась я от возмущения. – Живехонькая она! Зови служанок, приводите ее в чувство, нечего ей тут лежать.
– Да, моя госпожа, слушаюсь, госпожа княгиня! – преданно поедая меня глазами, закивала Лизавета и с истовой поспешностью бросилась выполнять приказание. Бросилась, не вставая на ноги.
Выглядело это нелепо – она ползла к двери, суетливо перебирая коленями, ползти было неудобно, длинный подол елозил по половицам, Лизавета то и дело наступала на него и валилась липом вперед. Но способ передвижения не меняла. Упорно.
Я с любопытством наблюдала за этой почти цирковой эквилибристикой, пока наконец не внесла единственно разумное, с моей точки зрения, предложение:
– А не встать ли тебе на ноги? Может, легче будет?
– Как прикажете, госпожа! – восторженно вскричала Лизавета, проворно вскочила и, не расправляя скомкавшегося подола, выпорхнула за дверь.
– Сонька, Манька, Варька! – донесся оттуда ее заполошный крик. – Бегом! Сюда! Госпожа зовет!
Немедленно в дверном проеме явились Сонька-Манька-Варька (служанки, что помогали мне разбирать гардероб), и представление с коленопреклонением повторилось «на бис». Все трое грохнулись на деревянные половицы почти разом – получилось довольно шумно. Я поморщилась.
Хорошо еще, что перед новоявленной госпожой княгиней, как перед святой иконой, лбом об пол не принялись стучать. Боюсь, что этого мои нервы уже не выдержали бы и я сама впала бы в истерику.
Но еще держалась, и, наученная общением с коленопреклоненной Лизаветой, я поспешила дать четкие, конкретные приказания:
– Ну-ка быстро: встали! Подняли Алевтину! Усадили в кресло!
Услыхав приказ кого-то усадить – о ужас! – в присутствии самой княгини, служанки нервно дернулись, едва не обронив бесчувственное тело Ачевтины обратно на пол, но я только грозно повела глазами – и приказ был выполнен.
– По щекам ее похлопайте! – тем же тоном потребовала я.
Усердие при выполнении этой скромной медицинской процедуры было проявлено столь редкостное, что каждая из троих норовила непременно сама заехать по мордасам бывшей фаворитке. Алевтина довольно скоро дернулась, застонала и, выпрямляясь в кресле, открыла глаза.
Поскольку первое, что она увидела, – была я в кресле напротив, то ее реакция оказалась стереотипной: она попыталась съехать вниз, чтобы встать на колени, при этом глазки ее вновь полуобморочно закатились, и из ритуального коленопреклонения ничего не вышло: Алевтина бесчувственным кулем вновь свалилась под кресло.
– Да что ж это такое! – в сердцах воскликнула я.
Девчонки-служанки съежились, почувствовав, что их ждет барский гнев, и уже без дополнительной команды опять усадили тело в кресло. Звук звонких пощечин прервался новым стоном, и я, не теряя времени, отдала следующий приказ:
– Уведите ее к себе, на третий этаж!
Пыхтя и отдуваясь, Сонька-Манька-Варька потащили тело вон. Бедная Алевтина с трудом держалась на подгибающихся ногах. Всех четверых разгульно мотало из стороны в сторону, и они едва вписались в распахнутую дверь. При этом кто-то чувствительно приложился о дверной косяк, раздалось гневное: «Ах, чтоб тебя!..» – и процессия удалилась.