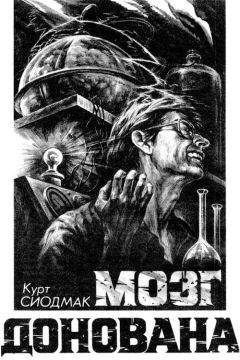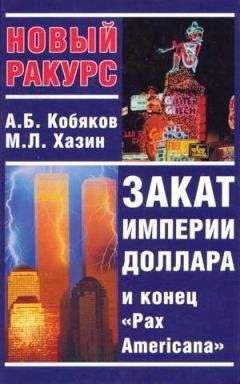Я опять начал передавать: «Слушай, Донован! Ты меня понимаешь? Донован! Если воспринимаешь мои сигналы, три раза думай о дереве. Три раза. Дерево. Дерево. Дерево».
Я посмотрел на энцефалограмму. Грифель самописца задрожал и вдруг выдал серию ломаных линий. Затем еще одну. И наконец третью — такую же, как две предыдущих. Дельта-колебания небывалой амплитуды!
Обессилев, я рухнул на кровать. Мне нужно было собраться с мыслями. Неужели ошибка? Или мозг действительно ответил мне? На бумаге трижды появились одни и те же линии, но означало ли это, что он понял меня?
Я бросился к сосуду и отстучал: «Думай о дереве. Три раза. Дерево. Дерево. Дерево».
Самописец снова вычертил три серии ломаных линий — размашистых и практически идентичных, как подписи одного и того же человека.
Затем альфа-циклы сменились плавными бета-колебаниями. Мозг заснул. Очевидно, выдохся: сказалась перенесенная операция.
Я продолжал следить за показаниями энцефалографа. Амплитуда кривых постепенно увеличивалась. Вскоре грифель самописца задергался как в лихорадке. Мозгу снились кошмары!
3 октября
Этой же ночью, позже, я навестил Шратта. Мне нужно было посоветоваться с ним.
Мозг подчинился моей воле и воспроизвел образы, которые я велел ему представить. Но как прочитать его собственные мысли — неоспоримо существующие, запечатленные в каракулях энцефалограмм? Мне не терпится, я боюсь, что он не доживет до завершения моего эксперимента. У меня мало времени.
Было три часа ночи. В небе сияли яркие звезды. Под ногами хрустел смерзшийся песок.
Пройдя мимо гаража, я без стука открыл дверь в комнату Шратта. Он спал, лежа на спине, с открытым ртом. Его лицо осунулось, но сам он выглядел немного лучше, чем несколько дней назад — морщины разгладились, на щеках появился румянец. Благотворное влияние Дженис, догадался я. Она заставила его отказаться от спиртного.
Его глаза вдруг открылись. Повернув голову, он уставился на меня, как на призрака. Когда я позвал его, он приподнялся на локте — по-прежнему не сводя с меня глаз.
— Идемте со мной, — сказал я.
Мой голос прозвучал хрипло, почти грубо.
Должно быть, я испугал Шратта — в его взгляде промелькнуло выражение подозрительности. Уж не думает ли он, что я хочу заманить его в лабораторию, заковать в цепи и использовать для своих опытов?
— Мне нужно кое-что показать вам, — добавил я.
Все так же недоверчиво хмурясь, он встал с постели и надел грязный домашний халат. Казалось, он не переставал о чем-то напряженно размышлять. Наконец он сел на стул, выдохнул и с решительным видом произнес:
— Патрик, мне нет никакого дела до ваших экспериментов.
Я опешил. Итак, Шратт решил не участвовать в моей работе. Поселившись в моем доме, он отстранился от меня еще больше, чем в те дни, когда стремглав выбегал из лаборатории, намереваясь никогда не возвращаться в нее.
— Вы обязаны помочь мне, Шратт. Без вас я не смогу продолжить начатое.
В эту минуту я был способен даже на лесть. Мое заявление явно тронуло его — однако, запахнув полы халата, он упрямо покачал головой.
Для него, как и для меня, весь мир представляет собой одну большую лабораторию. Разница в том, что я использую ее для достижения новых знаний, а он хватается за старые, отрекаясь от себя как от ученого.
— Патрик, вы знаете, что я испытываю отвращение к вашим исследованиям. Они не помогут человечеству — только умножат его несчастья. Когда-нибудь они вернут людей в эпоху варварства.
— Я такой же ученый, как и вы, — возразил я. — Мы оба всю жизнь специализировались в одной, довольно узкой области знаний, а потому не можем заглядывать так далеко вперед. Впрочем, нам это не нужно. Достаточно сознавать, что цивилизация не может существовать без специализации на какой-то определенной профессии.
— Цивилизация меня не интересует. Мы не можем понять собственной души, а лезем в физику, химию, медицину — уверяю вас, это от страха за себя, от сознания собственной беспомощности и ничтожности. У нас уже не осталось того человеческого достоинства, которое отличает человека от животного. Вы же хотите, чтобы мы пошли еще дальше — превратились в высококвалифицированных питекантропов, бездушных и эгоистичных. Желая синтезировать жизнь, вы препарируете ее, убиваете дух, поднимающий человека над землей. Вы верите только в свои приборы и механизмы. Вы убиваете веру! Меня радует, что таких индивидуумов у нас не слишком много. Поклоняясь идолу рациональности, вы отказываетесь признавать то, что не можете воспроизвести в лабораторных условиях. Я вас боюсь, Патрик. Вы конструируете механическую душу, которая разрушит этот мир.
Я терпеливо выслушал его тираду. Мне казалось, что ему хотелось главным образом выговориться, а не убедить меня в ненужности моей работы.
— Все великие ученые, — спокойно сказал я, — неизбежно приходят к точке творческого пути, где разум сталкивается с чем-то, выходящим за область человеческого понимания. Они признают существование материй, божественных по своей природе. Вспомните, сколько гениальных творцов науки к концу жизни начинали верить в Бога.
Шратт с изумлением посмотрел на меня. Он и сам мог бы подписаться под этими словами. Увидев, что я произнес их без малейшей иронии, он кивнул — но так, будто осуждал меня за сказанное. Наверное, все еще не доверял и сомневался во мне как в приспешнике его философии.
— Разумеется, — добавил я, — чтобы дойти до этой точки, за которой начинается великое Неведомое, человек должен преодолеть все пространство умопостигаемого опыта. Наш путь нелегок, но мы идем не вслепую: нам помогают ориентиры, оставленные нашими предшественниками, — конкретные, но указывающие на существование других, запредельных субстанций. Например, мы пользуемся знаком бесконечности. Мы оперируем им, имея дело с конкретными цифрами, мы ставим перед ним плюс или минус — превращая в образ, зрительно воспринимаем ее форму. Это кому-нибудь вредит? Естественно, нет. Более того, уходя в сферы, далекие от обыденной жизни, мы возвращаемся с решениями самых насущных земных проблем. Вот почему я не могу отказаться от своих исследований. Вот почему не могу поддаваться малодушию. Мой путь ведет к Богу — и я должен пройти его до конца.
Шратт смотрел в сторону, думая о чем-то своем.
— Спасение дается за дела, а не за огульное отрицание, — заключил я.
С этими словами я вышел за порог.
Луна сияла, как небольшое белое солнце, окруженное мириадами настороженных, немигающих звезд.
Я уже несколько лет не смотрел на звездное небо.